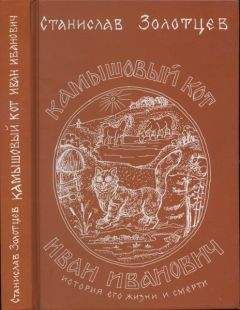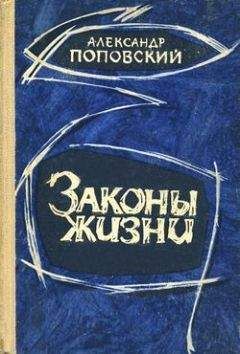В большей из двух комнат этой квартиры на одной стене висели портреты Сталина и Ленина (кто они такие, я уже знал, несмотря на малолетство). С другой стены на своих последователей смотрели Маркс и Энгельс (о них мне ещё предстояло узнать). В центре комнаты стоял большой обеденный стол, а в углу — стол поменьше, зато на двух тумбах с ящиками в них. На нём лежали разные тетрадки, тонкие и толстые, а ещё стоял строй книг в тёмных твёрдых обложках. А ещё над столом и по стенам висели большие фотографии в красивых рамках… Сам „дядя Портфель“ отсутствовал, когда баба Дуня привела меня к нему в дом, он должен был прийти к обеду, да не один, и потому его массивная супруга накрывала стол не на кухне, а в этой комнате. Я же разгуливал по сохранившемуся паркету и время от времени вставал на цыпочки, пытаясь разглядеть фотографии на стенах и обложки книг на столе в углу. (Ребёнком я, заметим, благодаря частым своим гостеваниям в домах ближних и дальних родственников рос не замкнутым и не робким, хотя и не капризным).
Заметив это моё любопытство, хозяйка на время отложила свои предобеденные хлопоты и провела для меня нечто вроде экскурсии по этой комнате. Чувствовалось, что эта толстая и не очень здоровая женщина в основном сидит дома, скучает по разговорам с людьми, а потому рада общению даже с малышом… Я для начала спросил её, нет ли картинок в толстых книгах, строем стоявших на столе. „Ну, что ты! — чуть ли не с испугом отвечала она, — это же Ленина и Сталина книги, самые главные для нас, самые серьёзные, а картинки только в детских книжках“. А на мой вопрос, нет ли у них в доме детских книжек, она развела руками и вздохнула: „Так и детишек у нас нету…“
А потом она стала ставить меня на стул, передвигая его от одной фотографии к другой и рассказывая мне о тех, кто на них был запёчатлён. Причём — с явной гордостью в голосе. Потому что на каждом из тех фото можно было увидеть „дядю Портфеля“ рядом с очень „большими начальниками“ — так она их сама называла. Конечно, в тех её горделивых рассказах и пояснениях я ничегошеньки ещё не мог понять: ведь она не умела говорить с детьми и растолковывала мне всё, как взрослому. Скажем, слово „министр“ я уже мог воспринять в своё сознание — то был кто-то, по моему разумению, поважней председателя колхоза, но все прочие титулы „больших начальников“, которые хозяйка квартиры произносила с придыханием (отчего её тонкий бас иногда перерастал в дискант), просто ещё не доходили до меня… Да и разглядеть-то её мужа на тех фотографиях можно было лишь с очень большим трудом: он едва-едва виднелся либо где-то с краю, либо высовываясь (и заметно было, что изо всех сил) из-за спин и голов людей, стоявших впереди, в первом ряду, с важными и хмурыми лицами. На одних из них были такие же фуражки и френчи, как на „дяде Портфеле“, другие же были в шляпах, — а шляп в Талабске тогда простые люди почти не носили…
Завершив эту экскурсию, хозяйка хотела было вернуться к своим хлопотам, но тут меня… нет, сказать, что меня „чёрт дёрнул“ задать ей ещё один вопрос, будет неправильно, потому что вопрос тот не к чертовщине относился, а к тому, что ей противоположно. Меня угораздило спросить её:
„А почему у вас в доме ни одной иконки нет?“
Услыхав эти слова, жена „дяди Портфеля“ дёрнулась, словно от сильного удара током, и рука её сначала потянулась к левой стороне груди, а потом ко лбу: она явно хотела перекреститься. Но тут же спохватилась: „Ох, прости, Господи, не дай Бог, если ты такие глупости тут за обедом, при людях болтать начнёшь! Это что ж они про нас подумают-то, а? Нет, не место тебе тут!“
И ещё минуту-другую, хватаясь то за сердце, то за голову, она кудахтала и причитала в том же духе, причём очень часто поминая Всевышнего, что меня привело в полное недоумение. Если б она стала убеждать меня, как это делали некоторые взрослые, что Бога нет — всё было бы понятно, а так… Словом, жена хозяина этой квартиры, столь непохожей на жилища других наших родичей, отвела меня на кухню и решила меня гостям не показывать. Мудрое было решение…
Но „дядя Портфель“, вскоре пришедший с двумя своими товарищами, не согласился с этим решением своей увесистой супруги. Видимо, по принципу „послушай женщину и сделай наоборот“. Принцип, в общем-то, хороший, но в тот раз он не сработал… Наш дальний родственник, вероятно, подумал, что я стану за обедом чем-то вроде „десерта“ к тем многочисленным угощениям, крепким напиткам, наливкам и вкусным кушаньям, которыми был нагружен стол в большой комнате и с помощью которых он, судя по всему, мечтал укрепить свои служебно-дружеские контакты с двумя товарищами, ставшими в тот день его гостями.
То были, как я вижу сегодня, действительно товарищи, причём гораздо более ответственные товарищи, чем сам „дядя Портфель“. Выглядели они очень солидно — почти так же, как многие люди, изображённые на фотографиях в той комнате. Дяденек со столь серьёзными и важными лицами я ещё не встречал до того. Даже у тех, кто приезжал в дедов дом на машинах, даже у тех, с кем почтительно разговаривали мои родители, лица были проще, живее и веселее. Те нередко и шутили, и хохотали. А каждый из этих двоих походил на грозовую тучу. Только на одной туче был мундир с погонами (я не запомнил, был ли то военный или, скажем, железнодорожник: форменную одежду с погонами многие носили в те годы), а на другой — солидный костюм, плечи и грудь которого, чувствовалось, были подбиты мощным слоем ваты, отчего его владелец казался почти богатырём. Но и у него, гостя в костюме и галстуке, как и у гостя в мундире, брючины были вправлены в голенища хромовых высоких сапог.
Вот и решил „дядя Портфель“ улестить суровые сердца своих гостей лицезрением своего малолетнего, благовоспитанного и не по годам развитого родственника — после того, разумеется, как их сердца уже будут восхищены знатным угощением. Он, видно, подумал так: поставим малыша на табуретку, и он стишок прочитает какой-нибудь, ну, там, „Травка зеленеет, солнышко блестит“, или басню Крылова, а то и песенку споёт, — вот эти ответственные люди и растают окончательно, и проникнутся к хозяину самыми уважительными чувствами. (О моих артистическо-исполнительских способностях он, без сомнения, знал, как и многие в нашей родове; отчасти благодаря этому, почти в младенчестве пробившемуся дару я и становился тем самым „переходящим призом“ в домах тётушек-дядюшек. Ох, чем хвастаюсь на старости лет!..) Но не исключаю и того, что в этом провинциально-чиновном человеке впрямь проснулись какие-то живые родственные чувства: мол, как же так, привели кроху в гости, а запихали на кухню, будто он приблудный беспризорник какой-то, а не сын и внук уважаемых людей; как я потом посмотрю в глаза этим людям, дальним, но всё же родичам!.. Кто знает, могло быть и так. Короче, попрепиравшись немного со своей сверхдородной супругой, шёпотом предупреждавшей мужа о возможных неприятностях, он за руку привёл меня к своим гостям…
А теперь представьте себе следующую сцену.
Представьте себя на месте хозяина дома — советского (или партийного, неважно) служащего послевоенных, позднесталинских лет. На месте хозяина квартиры, где на стенах, напоминаю, висят портреты вождей побелившего пролетариата. А в гостях у этого человека сидят суровые „ответственные товарищи“, от благорасположения которых очень зависит его дальнейшее продвижение по служебной лестнице. Следовательно, они должны быть твёрдо убеждены в его идеологической стойкости, обязательно подразумевавшей и „воинствующий атеизм“. Даже в те, далеко не самые людоедские по отношению к Церкви годы…
И вот перед этими людьми (не могу сказать — „пред ясны очи“: как раз по глазам-то было видно, что гости уже успели по рюмке-другой выпить, если не больше) появляется мальчик лет четырёх. Ну, от силы пяти. Вежливо приветствует взрослых, и лица их действительно начинают расплываться в улыбках. И взрослые говорят ему: угощайся, покушай, а потом прочитай нам стишок или песенку спой… Но мальчик вместо того, чтобы сесть, смотрит на портреты вождей и, остановив взгляд на одном из них (кажется, то был наиболее бородатый основоположник), трижды осеняет себя крестным знамением. И, перекрестившись, начинает звучно и с чувством декламировать:
„Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполнявши всякое животно благоволения“.
И, произнеся эти слова, малыш отводит взгляд от портрета Карла Маркса, смотрит на взрослых и наставительно сообщает им: „Эту молитовку надо читать перед вкушением пищи. И „Отче наш“ тоже можно“. После чего двигается к столу, чтобы, наконец, вкусить. Но…
Тут я уже не говорю вам: представьте себе. Нет, при самом богатом воображении вы и представить не сможете того, что произошло со взрослыми, сидевшими за тем столом. Для начала упомяну лишь две подробности. У одного гостя выпала из пальцев не донесённая до рта рюмка и со звоном разлетелась на фрагменты, упав на пол. Второй гость свою рюмку до рта успел донести, но поперхнулся её содержимым так сильно, что схватился за грудь, словно в неё кол вбивали. И оба гостя совершенно остолбенели… Через годы, став зрителем гоголевского „Ревизора“, который, как известно, завершается „немой“ сценой, где все действующие лица застывают в потрясении, я живо вспомнил тех двоих „ответственных товарищей“: с ними произошло примерно то же самое! Смотреть на них было одновременно и жутковато, и немножко забавно.