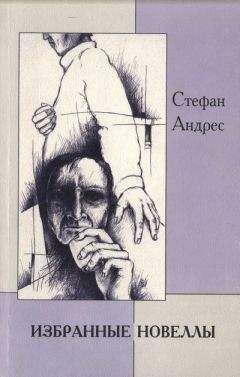— Благородных врагов надлежит искать человеку, — сказал он и вытянулся на своем ложе. — Пусть придет капеллан, чтобы прочесть вечернюю молитву. Но доктор Газалла тому воспротивился. Он собирался сам бодрствовать над постелью спящего больного.
— А разве Мы уснем? — спросил Ниньо де Гевара. Что он имел в виду: позволит ли боль ему уснуть? Или, может, что-нибудь другое?
Капеллан приблизился к одру больного. Рука поверх красного одеяла сделала слабое движение, собственно, не вся рука, а только пальцы.
— Дон Консалес, если Нам предстоит умереть этой ночью, то умрем Мы от Нашего желчного пузыря, от Нашей болезни, вполне естественной смертью. Вы поняли? Капеллан кивнул. — А теперь оставьте меня с доктором Газаллой.
Капеллан на цыпочках вышел. Дверь должна была бесшумно за ним затвориться, но в самую последнюю минуту бесшумно не получилось, раздался глухой удар, собственно, громкий лишь для этого места.
Доктор Газалла задул несколько свечей, осталась лишь свеча над изголовьем; больному она не мешала, она стояла позади него, она стояла над ним, по размерам свечи можно было отсчитывать течение ночи, не прибегая к помощи часов.
На кардинале поверх поределых волос была надета красная, тесно прилегающая ночная шапочка. Доктору она понравилась. Он размышляет о том, из чего эта шапочка сделана да как ее делали. Она облегает голову словно красная кожа, она легкая и хранит тепло. Интересно, она изготовлена по мерке, эта ночная шапочка кардинала, или просто сделана из эластичного материала?
Дыхание больного совсем не слышно. Можно проверить, как он дышит, и одновременно посмотреть, из чего сделана шапочка. Газалла выдернул перо из своего берета, врач всегда должен носить в берете пучок перьев. И если в подобные ночи будет израсходован весь пучок, покойнику еще придется возместить расходы. Газалла подходит к ложу, наклоняется, хотя и очень осторожно и не без труда, старость не радость, он уже старше, чем Эль Греко, или это многажды помянутая палка аркебузиров, которая торчит в пояснице у каждого гидальго, или — пушок трепещет, вот и отлично! Он идет назад и садится на свое место. А почему он, собственно говоря, так внимательно прислушивается к дыханию больного? Он уже немало повидал на своем веку людей, которые умирали из-за своего желчного пузыря, разве что они меньше разговаривали перед смертью и не так спокойно лежали. Или Великие Инквизиторы умирают по-другому? А почему ж тогда говорят, что в смерти все равны? Между тем он забыл пощупать шапочку. Но второй раз он из-за этого вставать не станет. Если судить по нагару на свече, то она горит уже не меньше часа, а то и двух. Просто диву даешься, до чего быстро утекает время, когда приходится думать о таких маловажных вещах, как шапочка кардинала, его дыхание, его желчь, его спокойный сон. Проходя библиотекой, Газалла видел картину Эль Греко. Не так уж и много там можно было увидеть — темный фон и незанятая середина полотна — место для тела и для головы. На месте для головы были выписаны лишь глаза, вернее, лишь очки. Отвратный прибор на лице — эти самые очки. А сам кардинал не против, что очки его так уродуют? Впрочем, Эль Греко не задает таких вопросов людям, которых он рисует. Он и кардиналу не задает вопросов. Газалле интересно, стал бы Эль Греко, довелись ему нести дежурство в этой комнате, думать о таких смешных пустяках, о свечах, ночных шапочках, перышках и дыхании. Смог бы Эль Греко спокойно глядеть на спящего? На эту гору костей под одеялом? Муха, наверно, восприняла бы его, как человек — горы вокруг Толедо. Дальние, высокие, бесплодные. Возможно, и сам Эль Греко глядит на него, на спящего Великого Инквизитора, глазами мухи. И что такое тогда страх? Он боится его, но готов рисовать. Точно так же вошел он и в грозу. Он впитывал ненастье, как губка — воду, он был залит и сотрясен вспышками голубоватого света, каждая молния пробегала по его спине как внезапный озноб, а гром точно так же бил по телу, как по ушам. А потом: из его пор вырывались и брызгали на полотно краски, и в результате на горе воздвигся Толедо в грозу, пугающе светлый в призрачный миг своего бытия; можно было предположить, что через мгновение наступит полная тьма, но лишь запечатленной на полотне молнии суждена долгая жизнь, лишь тогда она увековечивает страх.
И доктор Газалла тихо просидел всю ночь на своем стуле, размышляя о природе страха. — «Чтобы потом не пришлось бояться», — пояснил с резкой усмешкой Эль Греко, когда друг поведал ему о своем ночном дежурстве. Доктор Газалла его понял: «Значит, я прав, полагая, что вы пишете страх, чтобы на будущее избавиться от страха».
Эль Греко взял грушу из корзинки с завтраком. Они сидели в его келье и подкреплялись после бессонной ночи. Но, разрезав грушу, он потемнел лицом и медленно указал на ходы червя, проникшего в обе половинки. «Вы только посмотрите, Газалла!» И умолк. Врач не понял его, он разглядывал червячка, извивавшегося в своих отходах.
— Даже самые прекрасные фрукты следует проверять, — пробормотал Эль Греко, — даже их надо разрезать на две половинки. В этом и заключается мой страх: ощутить на языке червя и его отходы.
— Это не страх, это осторожность, — улыбнулся Газалла.
— Нет, это отвращение, — отвечал Эль Греко и тщательно вырезал сердцевину груши, — отвращение к нечистому, недоверие к внешнему миру, страх! Страх режет мир пополам, страх заползает в сердцевину. Вы грибы едите? — спросил он так же задумчиво. Газалла ответил утвердительно. — Вот видите, скажи вы мне, что не едите грибов, вас можно бы назвать робким. Страх отнюдь не возбраняет есть грибы, более того, именно страх наделяет нас смелостью, дабы отведать это изысканное блюдо. Говорю вам, Газалла, страх дает уверенность и дает радость, страх расчленяет мир, поистине он есть начало всякой мудрости. Подтверждение этой мысли я получил от самого Великого Инквизитора. — И снова он улыбнулся про себя. — Вот и я точно так же расчленял, — продолжил он, — я вижу, как он лежит передо мной, разрезанный пополам, вот что сумел сделать страх. Но Ниньо знает, что его я не боюсь. Страх поражает колени, когда знамя Святой инквизиции начинает свой поход. Это страх восходит на костер как жертва Святой инквизиции, он не выдает того, что узнал, заглянув в сердцевину мира. Итак, не я рисую страх, это мой страх рисует. Мои картины разрезают мир пополам, да, вот чего я хочу, и Ниньо должен своими глазами увидеть, как выглядит изнутри Великий Инквизитор.
В осьмидневник, что перед Крещением, настал день, когда Эль Греко завершил портрет Великого Инквизитора. Доктор Газалла все еще оставался в Толедо, всесторонне наблюдая состояние выздоравливающего как честолюбец, не совсем довольный результатами своего труда. Доктор Газалла стал той дверью, в которую за истекшие недели мог постучать каждый, кто желал пройти к кардиналу, в том числе и сам Эль Греко, так же тревожно приходивший и уходивший вплоть до упомянутого дня в осьмидневнике. Кардинал держался послушно и безропотно, и хотя гора бумаг в комнате у его секретаря все росла, он повелел декламировать перед ним простые стихи, каковые Газалла счел подходящими для его усмиренного желчного пузыря, а Эль Греко кардинал ежедневно уделял час своего времени.
«Нам надлежит вновь накопить силы», — ни с того ни с сего вдруг нарушал тишину Ниньо де Гевара, словно желая оправдать этим свою вынужденную праздность. Затем в его свесившиеся с подлокотников руки текла волна, как в пустой шланг, а конец этого шланга, его пальцы, вдруг скрючивались, после чего руки обвисали снова, готовно и праздно.
Эль Греко это видел, он всякий раз дожидался, когда по рукам кардинала пробежит эта волна, когда Великий Инквизитор заводил речь о накапливающихся делах. Еще он ждал, когда за стеклами кардинальских очков коротко и нетерпеливо вздрогнут ресницы.
«О, эта холодная, каменная меланхолия в глазах Инквизитора».
Множество разных зверей таится в глазах человека, словно в клетках зверинца; в них много чего есть — алчность, хитрость, леность и жажда крови, впрочем, все это по большей части не таит в себе опасности, ибо ограждено решетками из страха и привычки. Но вот глаза Ниньо — те опасны. Как в прохладном сумраке склепа, здесь все сплетено воедино и все неподвижно. А жезл, что сей смиренный держит в руках, опаснее всех зверей, ибо он подобен жезлу Моисееву, что, будучи брошен, оборачивается змеем. Эль Греко думает о пещерах, в которых обитают драконы, думает и о том, что эти драконы охраняют клад. Это глаза склепа, подобные моим, думает Эль Греко, они печальны, подобно моим, в них — могилы. О, эта холодная, каменная меланхолия в глазах Инквизитора. Возможно, она исказит смысл картины, а люди в этой печальной ночи не заметят змея. То, что печально, попадает в царство человеческого. Итак, не приглушить ли меланхолию? Он вдруг вытягивает шею и глядит из-за мольберта на Великого Инквизитора. Взгляд его долгое время выражает лишь один вопрос: что охраняет змей? Сокровище великой печали, которую познал мир? Так ли ты печален, как печальны мои святые? Печальный палач?