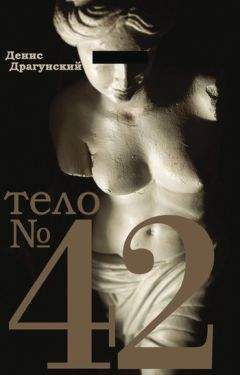Теперь-то уж точно устали? Ничего!
Ее ученица, нескладная еврейская девица Анна Шобер, должна – всего-то! – аккомпанировать тенору, исполняющему песни Шуберта на юбилейном концерте. Но профессор Эрика Кохут незаметно проникает в раздевалку и кладет этой девушке в правый карман плаща раздавленный стеклянный стакан. Та калечит себе руку. До того проф. Кохут страшно издевалась над нею, а после того – лицемерно сочувствует ей и ее мамаше.
Но и это еще не все. Терпите!
Молодой и прекрасный Вальтер Клеммер заявляется к ней домой, избивает ее – причем на полном серьезе, ногами по лицу, – а потом насилует. Чтобы доказать ей три вещи. Первое – он нормальный мужчина, а не объект садомазохистских фантазий. Второе – эти самые фантазии хороши на бумаге, а в натуре все очень больно и гадко. И третье. Она, конечно, блестящая музыкантша, его обожаемая учительница, объект страстей и вожделений, но при всем при том она – полное ничтожество, разночинка, инородка и вообще шваль. Актерка. На прощанье он говорит ей: «Не советую обращаться в полицию». Намек – у нас все схвачено.
Происшедшее, впрочем, не мешает ей запудрить синяки и явиться на юбилейный концерт, а ему – приветливо с ней раскланяться.
Но в сумочке у нее кухонный нож.
Оставшись одна, она всаживает этот нож себе в грудь.
А потом выходит из дверей консерватории, исчезая за кромкой кадра. Конец фильма. И совершенно непонятно, кто будет аккомпанировать тенору. У фройляйн Анны Шобер искалечена рука. У профессора Эрики Кохут (тоже фройляйн, между прочим) – нож в груди. Наверное, выручит Вальтер Клеммер. Здоровый мужчина блондинистой наружности – вот спасение.
Толкование совпадений
Спасение от расово неполноценных феминисток и извращенок. О нет, конечно же фильм не про это и не ради этой тоталитарно-патриархальной морали. Но ничего не бывает просто так.
Например, фамилия героини – Кохут – славянская (словацкая). Конечно, Вена – многонациональный город еще со времен Австро-Венгерской империи. И однако же как-то так вышло, что морально здоровому арийцу противостоит неарийская женщина с воспаленными эротическими фантазиями.
Итак. Он – аристократ, богач, немец, молодой и «нормальный». Она – плебейка, небогатая, славянка, старая, «ненормальная». Герои не сходятся по всем параметрам – от сословной и этнической принадлежности до возраста. Не говоря уже о сексуальных пристрастиях.
Если бы этот фильм был социальной драмой о барьерах на пути влюбленных, авторы оставили бы героям хоть узкую форточку, через которую они могли бы дышать навстречу друг другу, проклиная жестокое общество и злые обстоятельства.
Но здесь – трагедия полной, принципиальной, изначальной невозможности соединения. Единственная площадка взаимодействия – фортепьянный класс и Шуберт, да и то они понимают его по-разному. Для него это прекрасная музыка, и всё тут. Для нее – высокое безумие, шепот или крик при отсутствии середины. Отчего так? Подсказка опять же в фамилии героини. Хайнц Кохут (1913—1981) был одним из столпов психоанализа. У его однофамилицы-пианистки – проблемы известного рода. Фаллическая женщина. Мужик в юбке, проще говоря.
Можно уйти в прямое толкование слов. «Кохут» значит «петух», а эта птица всегда и везде (за исключением советского тюремного обычая) была символом мужской активности. «Клеммер» означает «воришка» – дословно «щипач». Басня о нахальном крикливом петушке, которому перехватил горло деревенский вор. Петух оказался курицей-трансвеститом. Забавно.
Но главное – в другом. Недаром Эрика Кохут спит на отцовской половине кровати. Вот корень, в который предлагается зреть зрителям фильма.
Все начинается и кончается нашими эмоциями, нашими глубокими, не всегда нам самим понятными переживаниями любви и ненависти. Потому что все барьеры и стенки – внутри нас. Если бы Эрика и Вальтер подходили друг другу эмоционально, по направленности чувств – то все социальные барьеры были бы взяты, сломаны, опрокинуты. И даже если бы в фильме судьба разлучила влюбленных – то у зрителя все равно осталась бы «затитровая», так сказать, надежда на то, что где-то все же сбудется. Чапаев выплывет. Ромео и Джульетта разберутся, где яд, а где снотворное.
И вот эта надежда, вот это желание «дать отдушину» придает многим произведениям искусства дополнительный и совершенно излишний характер инструкции по поведению в чрезвычайных обстоятельствах. Правильно расставлять часовых, проверить пульс у человека, лежащего без чувств, и так далее. Звонить 01, а до приезда пожарных законопатить дверь мокрыми полотенцами.
Для жизни это полезно. Для искусства – вряд ли. Потому что это письмо по неверному адресу. Искусство адресуется внутренним переживаниям человека, а они всегда гораздо трагичнее, чем внешние неудачи и драмы. И разговор нужен на соответствующем языке. Иначе это будет обмен благими пожеланиями.
Социальная грусть
Поэтому весь букет барьеров, стоящих между Эрикой Кохут и Вальтером Клеммером, – это лишь указание на то, насколько эти барьеры, по существу, малозначащи. Тем более в современном обществе с его высокой социальной мобильностью. Могу себе представить, как расхохочется или возмутится какой-нибудь демократический австриец, если прочтет мои рассуждения об аристократизме, богатстве, арийстве и «моральном здоровье». Впрочем, очень арийская «Партия свободы» недавно дала австрийским демократам ощутимого тумака.
Творчество автора литературной основы фильма Эльфриды Елинек на первый взгляд очень социально. Сплошная социальная критика, местами переходящая в социальный гнев. И то – Елинек с 1974 по 1991 год состояла в Компартии Австрии (замечу в скобках, что дата ее выхода из партии мне как-то не нравится, что-то тут, убейте меня, конъюнктурное). Итак, коммунистка и феминистка. Взять хотя бы упомянутый роман «Любовницы», где описана ужасающая в своей нечеловеческой безлюбовности, какая-то крысиная драка самок за самцов. Несчастные, тупые, озлобленные бабы дерутся за мужиков, тоже несчастных, тупых, озлобленных, да вдобавок еще гордых самим фактом своего «мужчинства». Этот довесок делает женщину непременной жертвой. И все это в серой атмосфере поселка при лесопилке.
Но социальность – лишь верхний слой. Персонажи «Любовниц» не могут соединиться, потому что они эмоционально примитивны. То есть, конечно, зарегистрировать брак они могут, но получаются лишь судорожные попытки совместного ведения хозяйства – ни о каком человеческом единении речи нет. Персонажи «Пианистки» не могут соединиться, потому что не понимают внутреннего мира друг друга.
Те и другие – глупенькая Паула из «Любовниц» и утонченная Эрика из «Пианистки» – еще не добрались до своего человеческого «я». Тем более они не умеют разговаривать с другим «я». Не просто с другим телом, с другим паспортом – а с переживаниями и эмоциями другого.
Поэтому за коммуно-феминистским надрывом романов Эльфриды Елинек явственно различается тоска по зрелой личности – по человеческому «я», которое научилось наконец-то слушать и понимать само себя.
Он девочка
Был один хороший фильм с еще лучшим сценарием – «В моей смерти прошу винить Клаву К.». Автор – Михаил Львовский, который не так давно умер и теперь наверняка пребывает в раю за песню «На Тихорецкую состав отправится».
Так вот, в этом сценарии было замечательное место. Мальчика бросила девочка. Мальчик спрашивает папу:
– Что мне делать?
– Страдать! – отвечает папа.
– Я не умею…
– Чему же вас в школе учат? – возмущен папа. – Страдать он не умеет!
В советской школе учили многим вещам, полезным и не очень. Но чему не учили совсем – так это страдать.
И запрещали говорить и думать «про это». Потому что серьезное отношение к «этому» вызывает страдания. А наша педагогика вполне официально была педагогикой оптимизма, бравурности, маршей и стягов.
Результат не замедлил сказаться. Советская культура наследовала так называемым «революционным демократам», которые если в чем и преуспели, так это в отнятии у личности половых признаков. В классической советской психологии и педагогике речь шла о человеке, о развитии ребенка. Меж тем человек и ребенок – это слишком высокая абстракция, чтоб ее можно было тестировать и воспитывать. На деле бывают мужчины и женщины, вырастающие из мальчиков и девочек.
В нашей культуре мужчины и женщины вырастали крайне редко, хотя младенцев обоего пола рождалось достаточно. Советская культура была до удивления, до карикатуры бесполой. А значит – трансгрессивной, то есть гомосексуальной.
Галина Вишневская пела романс на стихи Пушкина «Подъезжая под Ижоры, я взглянул на небеса». То есть от мужского имени. То же делала Зыкина с песней «Течет река Волга». Упомянутая «Тихорецкая» поется и от женского, и от мужского имени – благо текст позволяет. И когда текст явно не позволяет, тоже. Мужской голос поет из ларьков, где продаются кассеты: «Забирай меня скорей, увози за сто морей, и целуй меня везде, я ведь взрослая уже». Н-да.