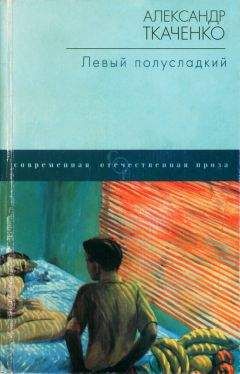Я помню, как совсем недавно шел по ночному Сайгону и думал, как я прилечу домой, встречу Либи и расскажу обо всем, что я видел, одарю ее всякой дребеденью, так милой любой женщине. И вот… на центральной площади Сайгона я врезался в огромную праздничную толпу. У них как оказалось, каждую ночь на этой площади праздник, где они потом ночуют все вместе, прижавшись друг к другу к раскаленным за день плитам. И вдруг я почувствовал, что на моих руках повисают маленькие теплые люди, клоня меня к земле. И вот уже чьи-то руки выкручивают из моих пальцев сигарету, другие лезут в карманы за донгами, и я понял, что сейчас меня разнесут и растащат на рубаху и брюки, на руки и ноги, на уши и нос и что я уже под маленькими теплыми ногами касаюсь горячих плит своей обнаженной спиной. А толпа, как виноградная гроздь, становится все тучнее и тучнее. Я неожиданно во все свои спортивные легкие заорал «на хуй!!!», и вся толпа вдруг затихла, но тут же испуганным хором и с акцентом ответила «на хуй!!!» и разбежалась… Я был спасен. Вот так и сейчас мне хотелось выйти на улицу моего родного города и заорать то же самое от отчаяния, презрения к себе и к Либи…
Боже, мы до сих пор играем в бутылочку, в эту компанейскую игру, когда все садятся в кружок и крутят бутылку. Вот она останавливается напротив того, кто ее вертанул, и тогда эта пара целуется, иногда для этого уходили в другую комнату. С бутылочки многое начиналось. И вот сейчас эта бутылочка продолжается, ты крутишь ее, и когда она останавливается, ты, к сожалению, никого не видишь напротив, и крутишь, и крутишь, пока не выпадет какая-то тварь и отведет тебя в комнату и так дохнет перегаром и перекуром, что побежишь ты от нее и завалишься спать со своим неуклюжим телом, лелея и холя себя любимого. Доигрался, допрыгался, доскакался, скажешь себе и уснешь в каком-то параллельном миру с призрачными тетками — твоими одногодками, которых ты перебираешь в памяти, как прелестные перстни, — яркие, сверкающие, молодые. Боже, теперь уже стали такими тетками, такими… А что стоило собраться — это было как ручеек, — вызванивали одну, у нее была подруга, и шли куда-нибудь попить бецмана, биле мицне или биомицин — простое, качественное, самое дешевое портвейновое вино. И вот уже и у них появились знакомые, а нас-то уже и окружили наши ребятки, все колятся, ставят и ставят выпивку, и толковище, и базары обо всем, а что, может, на хату к кому поедем, одна и говорит: а мои кони, родители то есть, уехали на три дня, поехали ко мне, только музыки нет. «Так говори адрес, вы езжайте, а мы за магнитофоном». И вот подъезжаем к окраине города, таксист говорит: дальше я не поеду, улица узкая. Берем магнитофон «Днепр», тяжелый, как рояль, под микитки и тащим вдвоем с километр в гору, там она и живет. Уже все сидят навеселе и только ждут нас с музыкой, и врубаем бобину с Адамо или Клиффом Ричардом, а еще лучше с Нейл Седакой, и пошло-поехало — танцы, свет выключили, а к полуночи уже все на бровях, куда ни заглянешь, все целуются, зажимаются, а кто-то тайком в уголочке дает в руку и забывается в кайфе, а те, кому не досталось девицы или парня, делают из себя очень грустных и напиваются, и только бобины переставляют и переставляют, так однажды и не заметили, как у нас магнитофон скоммуниздили, что-то пело что-то играло до самого утра, и всех это устраивало, потому что поддавали, поддавали и забывались, но под утро обнаружили, что пел один из наших, а его знакомые в это время и стянули бандуру, а мы и не заметили, смеялись, только мне было грустно, потому что магнитофон был мой… Расходимся, отсыпаемся, а завтра вечером «twist again»! Боже, и девки-то легкие были и простые, и никто никого не обижал, доброта была, мы кайфовали за своих родителей, которым выпала и война и, как они говорили, восстановление народного хозяйства, ну а нам только и подавай, и девки особенно — в центр выйдешь, ну просто лавиной прут, и все смотрят друг на друга — Сэсси Бо или БСМ мучо, — шпильки так и вонзаются в асфальт или булыжник с цоканьем и искрой… А сейчас — где они, тетки, бедные тетки, что время делает, стоит на месте, а они все идут и идут вперед, и все через тебя. Вот если бы однажды все собрались в одном большом зале, ну, может быть, в малом зале и ты дал бы им пресс-конференцию, — скажите, а почему вы оставили меня в кафе, я ждала часа два, потом только поняла, а мне сказали — за сигаретами пошли, дяденька. И такая сидит лапочка, ну просто девочка лет пяти, а ты дядька, потливый мужик; а другая: мне сказали, что уезжаете надолго, в командировку, а я вас видела с другой на следующий день, — и как заплачет, старая такая, старуха совсем, а ведь тебе было двадцать пять, а ей сорок, и ничего, а сейчас ей-то за семьдесят, ужас, и представить даже нельзя, а вот и самые дорогие две, спрашивают: а мы-то до сих пор, думаешь, тебя ждем, козел вонючий, мудак, уже детей взрослых имеем, не от тебя, к счастью, да и забыли о тебе, а ты тут все прыгаешь-бегаешь, до сих пор не знаешь, куда пристроить свой хуй, телеграммой вызываешь, пресс-конференция по вопросам денежной компенсации пострадавшим на почве уязвленного самолюбия от брошенности, заброшенности, запустения и невостребованности. Сучара ты, посмотри на себя, мы сами тебе можем скинуться на пиджачок приличный, чтоб ты сдох, ебарь поганый, только время зря теряем здесь, чего хотел, сострадания, сожаления, а этого не хотел, — кричат тетки и бьют себя по лобкам ладонями, тетки, тетки поганые, и как я мог — не верите, говорю, извиниться хотел, не верите… Все пришли-приехали, только нет Либи нет среди них и не будет. Хочет, чтобы я помнил ее девочкой моей, мальчиком-девочкой, девочкой-мальчиком с узким тазом и щиколоткой под тридцать пятый размер и грудью, помещающейся в мою ладонь.
Семь лет должно пройти, чтобы ты разлюбил. Семь раз вода ударилась о камень и стала чистой, так говорят на Востоке, семь раз поднимается заварной чайник высоко над пиалой, и тонкая струя зеленого чая, летя на дно, обогащается кислородом, семь раз чайник опускается своим сексуальным носиком к отверстию сосуда, и чай можно пить, он заварился, он чист и настоян на листьях и ветре высокогорья, — так и в любви семь лет должно пройти, чтобы ты разлюбил, семь лет я вставал и бросался в постель сна с тяжестью Либи в моем теле, в каждой клеточке мозга. Она вошла в мою плоть, растворилась. Другим я говорил, что душа моя выжжена и я не могу никого любить, что жизнь плоти и жизнь духа живут параллельно и только в геометрии Лобачевского пересекаются в отдалении. Семь лет я мотался по континентам, выветривая ее из себя, вытряхивал на матрасы проституток Сиднея и Мехико, семь лет отхаркивал с кровью скандалов и ссор, семь лет я ждал, чтобы дух не мешал плоти, а плоть могла наслаждаться другой женщиной без прослойки Либи, без памяти Либи, кожей, кончиками пальцев. Семь лет я ждал и вот наконец дождался. На следующий день я должен был проснуться ровно в тот день, как мы семь лет назад расстались плюс один день, и я проснулся, и, о боже, Либи опять лежала во мне, как флейта в футляре, и пела в ногах и руках, в глазах и в гортани, в кронах шумела, в легких, похрустывала в суставах, боже, семь лет я ждал свободы освобождения, проснулся, и вот Либи проходит в ванную и выходит оттуда голой, подобрав заколочкой волосы под затылок, чтобы они не мешали нам давить друг друга, как давят под прессом виноград, раздавливая косточки, дающие потом терпкость, горчинку, едва заметную вину поневоле, Либи…
Меж тем мне становилось легче, Либи ушла из моего сознания в подсознание, и, во всяком случае, я перестал видеть ее на каждом углу, в каждой женщине, мир для меня понемногу выздоравливал, и не все мои движения вперед связывались с Либи. Было ли это предательством по отношению к своему генотипу — думаю, нет, потому что, как со временем выясняется, Либи просто ушла глубже и заняла самые заветные полочки моих внутренних тайников. Хотя внешне я уже отвязался. Я мог спокойно ходить по моему с Либи городу с другой женщиной, не боясь, что она увидит меня и я буду за это казнен немедленно, но я иду и все время озираюсь по сторонам, чего-то жду, жду… Вот пробежал Календарик, местный поэт-модернист, художник-оформитель, фанат футбола и очень неуравновешенный, всегда краснеющий тип. Судьба его трагична, как и всех беззащитных в этом животном мире. Как-то ночью он гулял один и разговаривал с луной. Он увидел, что два придурка пытаются изнасиловать девушку. Он стал вопить, начал разгонять их, они испугались, и один из них ударом свалил Календарика с ног. И они убежали. А он, падая, ударился о парапет головой и мгновенно умер. Святой человечек был, никогда не забуду его строчку — «уйду прижечь зеленкой леса эту рану». Либи очень любила его, потому что чувствовала неприкаянную душу. Как-то мы сидели с ней у меня. На улице шел проливной дождь, уже весь вечер стояла холодная осень. Вдруг постучали. На пороге стоял Календарик. «Входи». Он снял туфли и в носках вошел, поздоровался с Либи и сказал только «сидите». Затем обошел комнату по периметру, посмотрел книги, потрогал корешки и ушел. Его не было минут двадцать. Затем он снова возник на пороге, я спросил: «Войдешь?» — «Нет, я пойду, я вернулся, я забыл надеть туфли». Он нагнулся, чтобы завязать шнурки, и затем исчез в черной стене дождя.