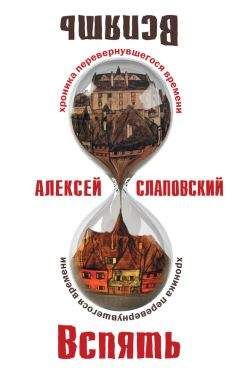Стал мрачным и тихим.
Через месяц сказал Талию, что чувствует полное нервное истощение и готов полечиться.
И начал лечиться амбулаторно, навещая поликлиничного невропатолога. Никаких тогда психотерапевтов не было, а уж тем более так называемых народных целителей, снимающих порчу и сглаз, врачующих биоэнергетикой, шептаниями и травами, собранными в полнолуние в Год Петуха и Месяц Льва на юго-западном склоне горы Екчелдык в Таджикистане. Тем не менее, дело явно шло на поправку — в том смысле, что руки отец стал мыть уже не более двадцати раз в день. Но одновременно с этим он как-то сникал, съеживался, иссыхал — и умер, как сказали старушки-соседки, святой смертью — во сне, без признаков какой-либо явной болезни.
Мама Талия ненадолго пережила отца…
Сиротство, которое Талий всю жизнь странным образом ощущал при положительном и заботливом отце, при доброй и любящей матери, стало завершенным и полным.
Впрочем — почему странным образом? Ничего странного. Оно, сиротство, было и у матери его — вместе с ощущением второй жизни, тогда как первая не прожита была до конца, а фатально оборвана. Оно было и у отца, который сиротлив был своей особостью среди людей, своим стремлением к порядку в мире бардака и хаоса. Как же не быть этому чувству у Талия?
Оно, можно сказать, на роду написано, предопределено.
А раз предопределено… — и тут Талий, понимая, что опять сбивается, может уйти в сторону, на некоем мысленном запасном экране — или листе — записал крупно: ПОДУМАТЬ О ТОМ, НАДО ЛИ БЫЛО МНЕ ЖЕНИТЬСЯ, ЕСЛИ Я ЗНАЛ, ЧТО ОСТАНУСЬ ОДИН, ИБО Я ЧУВСТВОВАЛ, ЧТО РАНО ИЛИ ПОЗДНО БУДУ ОДИН, ЗАЧЕМ ЖЕ ПОШЕЛ ПОПЕРЕК СУДЬБЫ, И НЕ НАТАША ВИНОВАТА, А Я ВИНОВАТ!..
Но сначала — додумать о наследственности, потому что эти мысли должны принести облегчение.
Именно в силу наследственной склонности к порядку он сегодня, только что, когда еще ничего не было кроме каких-то случайных слов, сразу же начал неизвестно что придумывать, раскладывать по полочкам — как делал отец его.
А ведь Талий с этой наследственной чертой боролся. Он опасался, что придет к такому же невеселому жизненному итогу, как Петр Витальевич. Он и сам с малых лет отличался аккуратностью и пунктуальностью. Но все было в пределах нормы — до одного случая, нелепого, глупого и…
В последнем десятом классе он ходил в школу с портфелем. Такова была мода тех лет: большие портфели из кожзаменителя, желательно с двумя замками, желательно оттенков от красно-коричневого до лимонно-желтого, на худой уж конец — черного. В портфеле у него было три отделения, а в отделениях был полный порядок: в одном учебники, в другом тетради, в третьем — ручки, карандаши, готовальня и всякие мелочи. И вот однажды у него пропала ручка с зеленым стержнем. Она была очень нужна. Для той же любимой истории, потому что когда он писал что-то в тетради по истории, то, исполняя весь текст синим или фиолетовым цветом, места наиболее существенные подчеркивал именно зеленым, а совсем уж важные, требующие заучивания наизусть, — красным. И вот пропала ручка с зеленым стержнем. Только что была, на прошлом уроке была, Талий помнил это абсолютно точно, и вот нет ее, потому что портфель он оставил открытым, отлучившись на минуту. Сначала он не очень-то встревожился. Дождался звонка на урок и, когда все собрались в классе, спросил громко: «Эй, кто мою ручку зеленую взял?» Ему не ответили. «Я спрашиваю, кто ручку взял?!» — громче спросил Талий, почувствовав неприятное дрожание в руках. Он обводил глазами всех. Кто плечами пожимал, кто смеялся, кто и вовсе вопроса не заметил. Талий в третий раз спросил — безрезультатно. Неведомое до сих пор раздражение появилось в нем, злость — хоть плачь, хоть губы кусай, хоть дерись! И впрямь — ударить бы кого, только — кого? Кто взял? Усмешка одного из одноклассников, юмориста Сычева (Сыча, конечно же, по прозвищу) показалась подозрительной. «Сыч, ты взял?» — напрямик спросил Талий. «Может, и я», — нахально ответил Сыч. «Отдай, скотина», — сказал Талий, изо всех сил сдерживая себя, даже улыбаясь. «А я уже ее съел!» — выкрикнул Сыч и похлопал себя по животу. Ничего смешного не было ни в его словах, ни в его дурацких жестах, но все засмеялись, потому что привыкли, что все, делаемое Сычом, — смешно. «Отдай, Сыч, не то морду набью!» — полез к нему Талий через парты. «Щас прям! — кричал Сыч, подбодренный смехом. — Подожди, вот в сортир схожу, тогда!» Талий, уже себя не контролируя, подскочил к Сычу, схватил за ворот его, низкорослого и щуплого, и стал трясти, в бешенстве выкрикивая (брызжа слюной — и ненавидя себя втайне, но еще больше все-таки ненавидя Сыча): «Отдай, а то убью! Отдай, отдай, отдай!» Ему дико и непостижимо было: как же это так, сейчас начнется урок, его любимая история, надо будет подчеркивать зеленым, а него нет зеленого! Спрашивать у соседей — у них еще не окажется или не дадут, да и если дадут, то каждый раз не наспрашиваешься! Он дергал Сыча — и это похоже было на какой-то психоз, припадок, кто-то сунулся уже разнимать, уговаривать, дивясь необычному поведению тихого Виталика Белова, который ведь — все знают — и впрямь тих, как снежный солнечный день в школьном дворе за окном — и так же бел, недаром — Белов. («Талий Белов был бел и мил, мыло любил — и сплыл», — из странных, полубессмысленных эпиграмм-каламбуров, которыми любил одаривать друзей приятелей Витя Луценко: просто так, чтоб друзьям приятное сделать). «Да не брал я!»- завопил перепуганный Сыч — и Талий ударил его кулаком по лицу, и еще, и еще, и в это же время все отхлынули: учительница истории пришла. А Талий все бил и бил, учительница кричала, а он все бил и бил, не видя уже, куда бьет, в глазах потемнело, а потом и совсем уже ничего не помнил, очнулся лишь в коридоре, у окна, где учительница теребила его за рукав и говорила что-то, а он весь дрожал — и учительница вдруг замолчала и повела его в кабинет школьного врача. Врач, молоденькая блондинка, усадила, что-то спрашивала мягко, а он глядел на ее волосы и думал, что она их, наверное, красит, она красит их в белый цвет, а если бы в зеленый? — как у его ручки, которая исчезла, пропала, не будет ее никогда, все пропало, все пропало!..
Подобных случаев у Талия не было ни раньше, ни потом. Но это не значит, что он избавился от болезни (именно болезнью это считая — находя мужество так считать). Просто он испугался, что становится точной копией отца — и сдерживался. У того ведь тоже был припадок (иначе не назовешь) в аналогичной ситуации. Однажды он, как обычно, сел в семь часов вечера к телевизору и хотел взять с журнального столика газету с программой передач — а там ее не оказалось. Отец спросил. Никто не брал и не видел. Отец стал искать. Обшарив всю комнату — с движениями все более резкими, он перешел в другую, потом на кухню, вывалил на средину кухни мусорное ведро, подозревая, что газету туда пихнули, и, хотя видно было сразу, что нет ее там, весь мусор пересмотрел, пальцами перещупал, переворошил. Называя сына и жену различными словами, он пошел обыскивать квартиру по второму разу — и гнев его был все страшнее. С совершенно уже безумным видом он подбегал к журнальному столику, бил по нему ладонью и кричал: «Если ее вы не брали, то кто взял? Я взял? Я не брал! Кто ж тогда брал?» И опять метался по комнатам, и опять подбегал к столику, бил кулаком (все сильнее), кричал: «Три дня тут газета лежала, никому не мешала, испарилась она, что ли? А? Я кого спрашиваю? А?» И опять метался, и опять подбегал, стучал по столику все сильней и сильней, заходясь криком (а Талию вдруг показалось, что отец в этот момент понимает, что приступ его похож на сумасшествие, но остановиться он не хочет и не может). После очередного удара, столик рухнул. Отец схватил доску его и грохнул об пол, не причинив ей вреда. Он подбежал к платяному шкафу, где газеты в помине быть не могло, и стал оттуда выкидывать белье и одежду. Потом выбросил все книги из книжного шкафа. Потом выкинул вообще всё из всех мест, где что-то было закрыто и могло быть не видно его глазу. Потом он стал доставать из серванта посуду и бить ее об пол и стены. Потом схватил все ту же злосчастную доску журнального столика и запустил ее в телевизор. Взрыв стекла, телевизор с грохотом падает. А под телевизор была приспособлена тумбочка, он стоял на ней плотно, но щель небольшая была, вот в этой щели и оказалась газета. Увидев ее, отец окончательно взбеленился, схватил, стал рвать ее руками, грызть зубами, а потом вдруг кликушески закатил глаза, странно стал вскрикивать-взлаивать, повалился на диван, мать бросилась отпаивать его валерианкой, водой, насильно водки влила полстакана…
Подобного никогда больше не было у него — как и у Талия. Талий только почему-то не может вспомнить сейчас, чей приступ был раньше — его или отца? Наверное, все-таки его: если б он видел отцовский, то сдержался бы. А может, раньше был отцовский, не ставший, однако, примером, ибо все, делаемое нами точно так же, как делали другие, кажется нам не таким — ведь мы-то не такие!