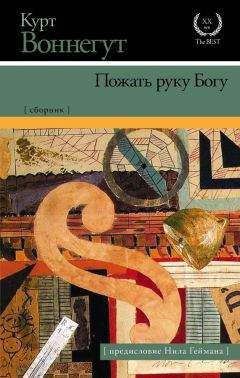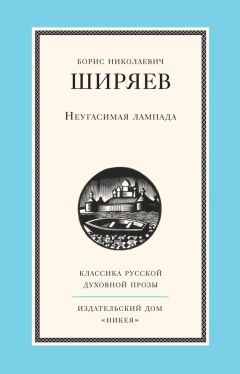«Тем хуже для фактов», — воскликнул когда-то Гегель, вступив с ними в некоторые противоречия. Почему же отставать от него доктору философии Монтворо?
И не ему одному. Позже, в Риме, я познакомился с главою итальянских «знатоков русской души» профессором Эрколе Ло-Гатто, переводчиком с русского, автором четырехтомной «Истории Русской Литературы» и множества статей о ней, деканом Славянского Факультета Римского университета и главою Общества итало-советской культурной связи, блестяще говорившим по-русски, по-польски, по-чешски и по-сербски, безусловно серьезным ученым. Его представление о России, где он два раза побывал в советское время и где сам в период НЭП-а скупил на Сухаревке у торговавшей там русской профессуры ценнейшую русскую библиотеку, ничем не отличались от воззрений Монтворо.
И все-же понять Россию он не мог, даже стремясь к точной передаче ее быта и языка. Случались нелепые комизмы. Давая перевод к фильму «Иван Грозный», он выразил русское свадебное восклицание «Горько!» итальянским термином сивухи — очень плохого вина. Восхищенные фильмом зрители несколько недоумевали, почему русский царь на своем свадебном пиру угостил своих «boiare» такою дрянью. Но он был точен в переводе.
«Вот как жилось бедным русским под гнетом их царей», — вероятно сочувствовали бедным русским боярам зрители, расходясь.
Вечером дня беседы с Монтворо мы сидели у профессорской четы Паллукини в его кабинете со стенами, сплошь заставленными книгами. Разговор шел на ту же тему.
— Как? Мы итальянские интеллигенты имеем дикие представления о России?.. Мы, читающие Tolstoy и Dostoevski — восклицал профессор, — вот, вот глубокая монография о ваших замечательных Nesterov и Vasnezzov, вот о вашем Andreo Rublev, — вытягивал он с полок роскошно изданные книги.
— Вот еще опровержение ваших слов, — улыбнулась милая и изящная, как всегда, профессоресса. — Я приготовила вам сюрприз, достала русские пластинки.
Она включила электрический грамофон, и из него понеслись звуки «Испанского Каприччио» Римского-Корсакова.
— Как это прекрасно! Как сумел он уловить и разбить эти столь чуждые ему ритмы и мелодии… Необъятна душа славянина… — молитвенно шепчет синьора.
«Каприччио» сменяет «Трепак» Мусоргского в исполнении какого то русского баса…
… Крутит поземка… вихрится русская метелица…
Эй, мужичёк, старичёк убогий,
Пьян напился, поплелся дорогой!..
… взвизгнули и завились в снежном хороводе кудлатые ведьмы…
А метель-то злая поднялась, взыграла,
С поля в лес дремучий мужичка загнала!..
— Что это? — спрашивает меня венецианка. — Вы говорите, «trepac» — пляска? Но как же можно танцевать под такой бешеный изменчивый ритм?
Эх, небеса, небеса да тучи,
Степь да метель, да снежок летучий…
… кружатся, крутятся злобные, колючие морозные ведьмы.
За окном тихая гладь озеркаленного розовой луной канала.
Да, здесь нельзя плясать под этот ритм. Возвращаясь в наше палаццо, мы с женой останавливаемся на мосту. Под нами — темный бархат канала. Сегодня какая-то феста, праздник.
Пролеты каменных арок играют огоньками разноцветных фонариков. Их отражения порхают по бархату резвыми, шаловливыми мотыльками. Итальянцы любят и умеют легко жить.
Запад есть Запад. Восток есть Восток.
И с места они не сойдут.
Пока не предстанет Небо с землей
На Страшный Господний Суд
— цитируя я Киплинга.
Не сойдут и не поймут.
— А сам-то ты себя понимаешь? — спрашивает жена. — С кем ты? Куда ты стремишься? К кому? Кто сам-то ты? Знаешь?
Я смотрю на темный бархат канала с резвящимися на нем мотыльками и пытаюсь найти ответ в сумраке его глубин, хранящих тайны ушедших веков.
— Нет. Не знаю! Идем!..
…Пьян напился, поплелся дорогой, — напеваю я, — а метель то злая… поднялась… взыграла… Эх!
Прожив шесть месяцев в Венеции, я кое-как объясняюсь по-итальянски и смог понять обращенную ко мне, судя по протяженности, очень красивую речь демократического чиновника. Впрочем, смысл ее был краток и определенен.
— В течение 48 часов вы должны выехать из Венеции.
Цифра 48 была для верности даже выписана на бумажке. Подытожив этой цифрой всю бездну перлов своего красноречия, чиновник показал мне часы на его левой руке, обвел пальцем правой полный круг по циферблату и подтвердил ультиматум:
— Quoranto otto ore!
В остроумии при объяснении с иностранцем ему, конечно, отказать было нельзя.
— Куда? — спросил я.
— Куда только вы пожелаете! — любезно развел он руками, символизируя этим движением всю необъятность мирового пространства.
В моем представлении вселенная была несколько меньше, а, принимая во внимание все свободы западного мира, в том числе незафиксированную еще в числе демократических свобод свободу передвижения, она ограничивалась для меня приблизительно Италией, на всей территории которой, кроме Венеции, наиболее знакомым мне человеком был Его Святейшество Папа Пий XII. Его умное и энергичное лицо я хорошо запомнил по портретам.
Спрашивать, почему меня выселяют, я не стал. Причины подобных путешествий перестали меня интересовать еще на моей свободнейшей родине.
— В Рим, — твердо произнес я, зная с детских лет, что именно в этот город ведут все дороги, следовательно, опасность заблудиться отпадает.
— Прекрасно! Завтра утром вы получите все бумаги. Аванти, синьор, аванти!
На обратном пути я забежал в иезуитский монастырь и поведал о происшедшем падре Лозару.
— Через два часа я буду у вас, — ответил он, — тогда будем знать все и подумаем…
Весть о моей эвакуации, понятно, взволновала русских, обитавших во дворце Дожа Фоскарини.
Еще бы! Все ходим под Богом! Нынче — ты, завтра — я. Но явившийся в срок падре внес дозу успокоения.
— Я узнал, что приказ относится только к вам одному.
— Но чем я лучше других?
— Ваша книга, — поднял вверх падре, — о ней узнали коммунисты, чиновники муниципио. И, кажется, несогласны там с чем-то…
— Но ведь в Италии свобода слова?
— Конечно. Вы и можете писать, что вам угодно… Почему вам этого не делать в Риме?
— Кажется, прежде всего мне придется купить три билета в этот город, что при наличии ста лир в кармане несколько затруднительно.
— Господь о вас позаботился, — падре сложил руки, как-бы ловя мячик, падающий с неба, точь-в-точь, как статуя Сан Джеронимо на фронтоне его монастыря, — я прошел в муниципио и уговорил их оплатить вам проезд. Там еще прислушиваются к голосу Святой Церкви…
— Я тоже об этом подумаю, — решительно и деловито заявила венецианская мадам Беттерфлей, участвовавшая в совещании.
И подумала. Вечером при прощальном визите к профессорской чете ее муж вручил мне конверт.
— Двадцать тысяч лир. Вы расплатитесь из гонорара. Я уже договорился с Монтворо. Лишь подпишите доверенность.
Милый бедный мечтатель! Вряд-ли он и теперь, через пять, лет, получил по этой доверенности хоть пять лир. В своем последнем письме он заверял, что не претендует на получение этой суммы…
Но муниципио на билеты деньги выдало. Добрый падре Лозар, провожавший нас, перекрестил отходящий поезд и мы покатили на юг, одною из тех дорог, которые неминуемо скрещиваются в Вечном Городе.
Кроме благословения, падре вручил мне 1.500 лир и письмо.
— Возблагодарим Господа! Я успел побывать еще у начальника карабинеров и получил для вас на питание в дороге. Там тоже прислушиваются к голосу Церкви.
Милый падре опять сложил руки корзиночкой и поймал упавший в мой карман небесный дар.
Я перекрестился под пиджаком. На станции было людно, а от навыков, привитых в стране, освободившей свои народы от «опиума», отвыкнуть не так легко. То, что дары Неба поступают к нам иногда и при посредстве шефа карабинеров, я полностью усвоил несколько позже.
На конверте данного мне письма стояло: Padre Filipp de Redgris. Via Carlo Cattaneo, 2. Collegium Russicum.
Больших сведений об этом адресате отец Лозар мне сказать не успел, разъяснив лишь на своем объединенно-славянском диалекте:
— Тамо русские… Русские, какие за Папой…
И вот, дорога нас, действительно, подводила к Риму. Вдоль линии железной дороги уже потянулась цепь арок акведука. Воспринятая в юности сентенция не обманула. Позже я узнал ее глубину: действительно, все дороги вели в Рим… По крайней мере нас, российских профугов 1945 года. Эти дороги тянулись и из-под альпийского Толмеццо, и из доков солнечного Неаполя, и из Белграда, и из Тираны, и из Франции. А если бы порхать по ним в обратном направлении, так можно было бы и до Арарата и до калмыцких степей добраться…