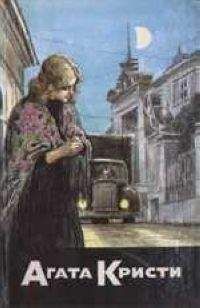– Ричард влюбился, – сказала она с гордостью, словно это все было ее рук дело.
Они глядели молча, потом Горас спросил:
– В дочку Флиннов? – И в тоне его прозвучала растерянность.
– Папа не знает, – поспешила заверить их девочка.
Их тогда изумило, как ясно представляет себе маленькая Джинни реальное положение вещей.
– А что, он бы не одобрил? – неискренне поинтересовался Горас.
– Они ирландцы, – ответила Джинни и опять улыбнулась.
Горас и глазом не моргнул. А Салли внимательно посмотрела на племянницу, сама не разбираясь во всех своих чувствах, хотя, безусловно, среди прочего была и растерянность. Но Джинни была просто в восторге; и Салли подивилась почти безотчетно, как легко опровергает природа закоснелые мнения, мертвые теории.
Горас откинул назад плешивую голову, чтобы охапка свертков в руках не загораживала от него танцующую пару, и проговорил, щуря добрые глаза:
– Так-так. Ирландцы, говоришь.
А те перестали кружиться и стояли, смеясь и все еще держась за руки. Потом Ричард их заметил и помахал. Дочка Флиннов замялась было, но тоже махнула им рукой. И Ричард собрался с духом – надо было знать Ричарда – и за руку подвел ее к ним. Представил, с запинкой выговорив ее странное старинное кельтское имя и залившись краской. И она покраснела тоже, под румянцем скрылись, затмились на минуту веснушки. Горас учтиво поклонился, как будто знакомился с новым пациентом, которого хотел уверить в своем внимании и почтении. Он был ниже ее ростом. Рядом с ее красотой он выглядел просто жалким.
Позже, в машине, когда они тронулись с места, Ричард, не очень-то таясь, смотрел назад, пока оранжевые волосы и белое платье не скрылись за деревьями.
А Джинни спросила у Салли:
– Правда ведь она хорошенькая?
– Красавица, – ответила Салли. И улыбнулась про себя, взглянула на Ричарда. Потом обратилась к мужу: – Ты не находишь, Горас?
Он, видно было, задумался, мягкие ладони крепко сжимали руль, голова все так же откинута и чуть-чуть повернута вбок. Салли отлично знала, о чем он сейчас думает. Что нехорошо вмешиваться не в свои семейные дела, но молодые имеют право влюбляться, в кого им больше нравится. Таков самый очевидный из уроков истории.
– По-моему, очень милая девушка, – сказал он.
И это было справедливо, как они вскоре убедились, когда познакомились с ней поближе.
Она была прелесть, веселая, нежная, пылкая, и умница, и такая забавница – но и с норовом, умела и надуться при случае. Они к ней за это хуже не относились: уж если она отважилась потягаться с Джеймсом Л. Пейджем, ей понадобятся все виды оружия. Постепенно Салли и Горас Эббот оказались втянуты в заговор влюбленных. Салли, например, не раскаивалась. Она бы и опять так поступила.
Она опустила взгляд в книгу, но сквозь строки ей по-прежнему виделся тот танец на зеленой лужайке и развевающиеся рыжие волосы дочки Флиннов. Нет, не танец, вдруг раздраженно поправила она себя, а естественное упоение юных влюбленных сердец.
Но и танец тоже. Условность. Притворство. Она полуприкрыла глаза и вгляделась попристальнее, высматривая деланные жесты, прислушиваясь к голосам.
Салли Эббот вдруг вздрогнула и очнулась. Надо же было так странно замечтаться. Картина, развернувшаяся в ее воспоминаниях, была такая же яркая, как те, что вставали перед нею со страниц книжки, – и, вероятно, не многим ближе к реальности. Но удивительно было то, осознала она теперь на расстоянии свои мысли, свою печаль, что все это совсем на нее непохоже. Она всегда была оптимисткой, умела радоваться жизни. Созерцательность – не ее черта; она убиралась в доме, готовила пищу, твердо брала вещи в свои руки и делала, что могла. Откуда такое недоверие к очевидности, такой неприличный цинизм? Приходится предположить здесь влияние найденной книжонки. И влияние нездоровое, это бесспорно!
Бесспорно, бесспорно, думала она, а пальцы у нее дрожали. Когда-то Салли Пейдж Эббот была красивой женщиной, жила обеспеченно, в удачном браке и безумно гордилась племянником и племянницей, хотя, конечно, и огорчалась, что не имела своих детей. А если оглядеться теперь... Она подняла глаза от книги и тут же, глотнув воздуха, снова опустила.
Теперь, видя перед собой печатные строки, она отчетливо поняла, что непременно будет читать дальше, уж хотя бы для того, чтобы провести время, чтобы спрятаться от бессмыслия, от тоски, от разбазаривания жизни. Пусть она дурацкая, эта книга, пусть в ней все выдумано. И выходит, сборища ее племянницы – как раз то, что нужно. Словеса, флаги – неважно. Все годится. Глазеть на экран, петь псалмы. Говорить стихами.
Она досадливо покосилась на бра над кроватью: слишком тусклый свет, абажур толстоват; подняла глаза на лампу под потолком: не многим ярче. Ни то ни другое явно не предназначено для чтения. Пожалуй, лучше засветить керосиновую лампу на комоде.
Почему-то ей вспомнилась жена Джеймса, миловидная, глупенькая Ария, она уже много лет как умерла – какая-то особая форма рака. На всем доме, где выросла когда-то Салли, лежит печать доброго, приветливого нрава последней хозяйки. Салли вспомнила, как Ария вешала на окна кружевные занавески и, залитая солнцем, пела. «У тебя прелестный голос», – сказал ей тогда Горас. Он всегда был особенно любезен с женщинами. Отчасти это было связано с его зубоврачебной профессией. С того дня, когда бы Салли и Горас ни бывали у них, Ария всякий раз выискивала повод помурлыкать что-нибудь себе под нос. Даже противно. И старая женщина решительно погрузилась в чтение.
2 ОБРАЩЕНИЕ АЛКАХЕСТА
Джон Ф. Алкахест, сидя в инвалидном кресле у полированного борта на палубе катера береговой охраны, разглядывал в бинокль рыбачий мотобот. Происшествия нынешнего вечера разогнали кровь у него в жилах; он впервые вышел на катере береговой охраны, и действительность сразу превзошла все его ожидания. Слово «самоубийство» вдохнуло жизнь в застой ночи, и молодые, здоровые охранники, в славной решимости выпятив подбородки, красиво играя звериными мышцами, носились взад-вперед по палубе, готовые к самопожертвованию и к беззаветному геройству, хотя делать им особенно было нечего. Джон Алкахест был сам не охранник, а врач, бывший нейрохирург, пользовавшийся в свое время превосходной репутацией. Сейчас ему было восемьдесят три года. У него имелись свои характерные особенности. Во-первых, он был паралитик, сухоножка, в инвалидном кресле с девяти лет, когда его отец, донимаемый опухолью и вообще с тяжелым характером, прострелил ему спину. Во-вторых, он был похож на маску Смерти в могильном маскараде: голая голова – как череп, белый и матовый, словно намеленный, кисти рук пепельные, можно поклясться, что у него в жилах не кровь, а формалин. Помимо бледности, его отличала феноменальная сверхчувствительность, крайняя острота восприятия, весьма редкая у людей преклонного возраста; он, как он сам говорил, напоминал персонажей из готических романов, которые слышат шелест савана на покойнице в другом конце дома. У него был нюх острее, чем у охотничьего пса, и потрясающе тонкое осязание. Только вот зрение было неважное. Он носил толстые буро-дымчатые очки. И то ли из-за близорукости, то ли по другим, более темным причинам, но глаза у доктора Алкахеста, глубоко посаженные, ввалившиеся, странно отсвечивали, отчего даже его старым коллегам становилось не по себе. Чтобы как-то сгладить такое действие глаз, он всегда, если не забывал, старался щериться улыбкой скелета. Был он, разумеется, крайне самолюбив. Всегда в модном темном костюме, при черном вязаном галстуке ручной итальянской работы с рубиновой булавкой, а сегодня на нем еще было австрийское зимнее пальто с черным меховым воротником. Его моторизованное инвалидное кресло было самого дорогого образца, «мерседес-бенц» среди инвалидных кресел: черная кожа на сиденье, серебряные спицы колес, черные кожаные подлокотники. Колени ему окутывал красивый алый плед.
На катер береговой охраны доктор Алкахест попал из-за возникшего у него в последние месяцы навязчивого сознания, что жизнь его – это непроглядно-черная, бездонная яма, лишенная всяких удовольствий и стремлений. Он нуждался во встряске, так он считал, в квазисексуальном возбуждении, вроде того, что он испытывал первое время, когда нанял себе уборщицей девочку, которая была изнасилована. Некогда пользовавшийся большой известностью в определенного рода английских кругах, прославленный завсегдатай злачных местечек, доктор Алкахест уже много лет пребывал в бездеятельности. Он утратил всякое ощущение того, что...
– Тьфу ты, – рассердилась Салли Эббот. Дальше не хватало листа, страниц одиннадцатой и двенадцатой. Она перебрала все вложенные в книгу выпавшие листы, но нет, этот потерялся. Может быть, конечно, остался на полу, где она подобрала книжку. Или под кроватью. Салли отложила раскрытую книжку, встала и, низко нагнувшись – еще подвижная, несмотря на годы, – пошарила левой рукой под кроватью. Листа там не было. Только хлопья пыли. Она распрямила спину и задумчиво посмотрела в окно, обращенное в сторону улицы.