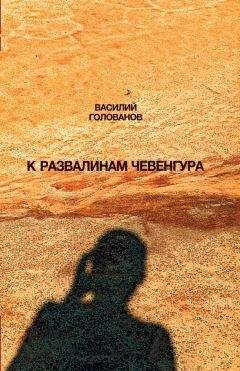Ознакомительная версия.
Аттару принадлежит один из наиболее ярких поэтических образов, передающих опыт «фана» и «бака»: Божественная сущность уподоблена им соляной шахте, в которую проваливается осел. Погибнув и напитываясь солью, осел теряет все свои низменные качества и постепенно сам целиком превращается в божественную соль.
Однако подробнее всего разработана Аттаром концепция Пути. Ему принадлежат прекрасные строки:
Словно дождевое облако над океаном,
отправляйся в путь,
Ибо без путешествия ты никогда
не станешь мужчиной!
Собственно, и поэма «Мантик ат-тайр» («Беседа птиц») есть не что иное, как аллегорическое повествование о странствованиях души (уравнение птица=душа обще для многих культур) через семь долин к познанию высшей реальности. В конце поэмы тридцать птиц Аттара, отправившиеся на поиски царя птиц Симурга, понимают наконец, что сами они – си мург («тридцать птиц») – и есть Тот, кого они искали. «Это один из самых оригинальных каламбуров в персидской литературе, превосходно выражающий тождество души с Божественной сущностью».
Примечательно, что к сочинению поэмы Аттара подтолкнула написанная веком раньше аллегория Сана,и, называвшаяся «Путешествие рабов к месту своего возвращения».
Нет сомнения, что ничего этого Хлебников не знал. Потому что в противном случае, скорее всего, не обошел бы вниманием такой роскошный сюжет, никоим образом еще русской словесностью не отраженный. Поэма Аттара, повторимся, не переведена на русский язык до сих пор, хотя достоверно, что, по крайней мере, в тридцатые годы сюжетная канва ее становится известной в России как восточная легенда.
Важнее всего, пожалуй, то, что Хлебников не разделял мистическую концепцию Пути.
Хлебников, несомненно, был мистиком – но мистиком именно в том смысле слова, который оно приобрело в Росии в начале ХХ века; как и все русское общество, он погружен был в тот расплывчатый мистицизм, который есть свидетельство скорее алкания, нежели наполненности, скорее предчувствия, догадки, нежели истинной и целенаправленной практики веры.
Аскет и человек «не от мира сего», Хлебников в иное время мог бы стать большим религиозным подвижником. Нет сомнения, что его участие в персидском походе объясняется страстным желанием узреть воочию страну соловья и розы и приобщиться к тому типу святости, который воплощали собою «влюбленные поэты» – суфии (святость поэта, собственно, подразумевается только суфийской мистической традицией). И, как мы знаем, он находит себе подходящий образ: Гуль-муллы, священника цветов. Но он – человек нового мира. Он – Председатель Земного Шара, он – пророк. Он пришел в мир, чтобы возвестить новые истины, а не для того, чтобы, как раб, смиренно пройти по Пути к месту своего возвращения. Потому, даже войдя в образ поэта-дервиша, он так и не постигает глубокого символизма персидской поэзии. Поэтому его «птичья» символика остается недоразработанной – или, если угодно сказать по-другому, – естественно-научной. Безусловно, и для него птицы – посланцы и носители языка, который вживлен в его тексты наравне с человеческими речами («“Беботеу вевять”, – славка запела»). Но, возвещая, он не слушает. Не слыша – не понимает.
Отношение Хлебникова к «птичьему языку» совершенно определено в его программной «сверхповести» «Зангези», написанной в 1920—1922 годах и посвященной, собственно, демонстрации всех тех возможностей, которые открыла Хлебникову бесстрашная работа со стихиями языка. Примечательно, что «повесть» открывают птицы, предвосхищающие появление богов.
Голоса птиц переданы с предельно возможной на письме точностью:
Овсяночка (спокойная, на вершине орешника): Кри-ти-ти-ти – цы-цы-цы-сссыы.
Дубровник: Вьер-вьёр виру сьек сьек сьек! Вэр вэр виру сек-сек-сек!
Больше того, когда боги появляются, они сами начинают изъясняться на языке непонятной человеку природы, так что предваряющие их появление птичьи трели можно, конечно, истолковывать как язык серафический. Однако речи богов менее благозвучны, нежели язык птиц: «Мара-рома, Биба-буль! Укс, кукс, эль!», и только темны, только непонятны в сравнении с тем, что возвещает потом Зангези – маг, овладевший революционными стихиями языка, маг, понявший, как посредством энергий языка творится история и держится мироздание. Вспугнутые «благовестом ума» и проповедью Зангези, боги покидают повествование, унося с собою и свой божественный клекот. Высшая форма языка – это тот самый «Звездный язык», который Зангези возвещает людям…
Поэтому мы не слишком погрешим против истины, сказав, что на пернатый мир Хлебников смотрит глазами отца-орнитолога. Хотя сам тот факт, что трель славки постоянно вклинивается в слух Гуль-муллы, свидетельствует о том, что образ поэта-дервиша не был простой этикеткой, которую Хлебников вывез из Ирана, как наклейку на туристском чемодане6. Напротив, то была самоотверженная попытка войти в иную поэтическую роль. Хлебников многое почувствовал, многое еще хотел понять. Многого не смог и не мог.
Как человек своего времени, он в самых дерзновенных поэтических опытах – естественно-научен. Метод, которым он оперировал, стал для него главным препятствием для мощного вруба в смысл персидской мистической поэзии. И несмотря на то, что многие его изыскания в слове действительно похожи на изыскания поэтов-суфиев, их отношение друг к другу можно представить как отношение квадратного корня из – 1 (мнимого числа, выдуманного Хлебниковым, чтобы «отвергнуть прошлое» и освободиться от власти вещей) к 1. Почему «тополь весеннего Корана» превращается у Хлебникова не в насест для скворцов, возвещающих благую весть на своем птичьем наречии, а в невод, закинутый в «синюю тоню» неба.
Правда, для ловли Бога.
В этом – превратность метода Хлебникова. Но и – неповторимость всей его поэзии, черт побери!
V
Заряжая свежую пленку в фотоаппарат, я сделал положенные три контрольных спуска и так случайно уловил в объектив цвет земли Азии: желтый с голубым. Табачные листья, высыхая на вешалах, приобретают цвет глины, которой обмазаны (с примесью золы) стены тростниковых построек аула, бурый, с желтыми и тускло-зелеными прожилками цвет бескрайней степи, цвет сухого кизяка, которым топится печь во дворе, курясь струйкой терпкого дыма. Череп коровы белеет на изгороди; девушка с лицом терракотового цвета с охапкой желтых прожилковатых листьев в густом аромате сушильни; пресс, спрессованные, словно сланцы, листья табака – будто плиты, вырубленные из палящего времени… У Хлебникова та же цветовая гамма передана двумя строками:
Как скатерть желтая был гол
От бури синей сирый край…
Поэт еще и потому обречен был на непонимание, что не только по времени «не совпадает» с современной ему русской словесностью, но и выходит за ее пределы чисто географически. В 1913-м им написана короткая интересная статья о географии русской литературы. Хлебников говорит о том, что огромные пространства России так и остались не затронутыми словесностью, неозвученными, образно не проработанными – «воспет Кавказ, но не Сибирь с Амуром» – равно как и Волга, и Азия. Оказавшись первопроходцем литературы в Астраханском крае, он пытается создать формы и язык, адекватные контексту, дробящемуся изумительными орнаментами природных и языковых форм, контексту, в котором прошлое напоминает о себе целыми караванами призраков, а настоящее порой похоже на сказку. И он такой язык создает. Например, повесть «Есир» есть совершенно точный образный слепок с пространства/времени дельты. Каждая деталь в ней существенна и точна, пейзажи фотографически выразительны, слова – даже если кажется, что употребление их необязательно или нарочито, – на деле оказываются совершенно укорененными в контекст, связанными с ним тысячами ассоциативных нитей и древней историей… Он говорил на языке, совершенно адекватном тому, что ему открывалось. Но, поскольку то, что ему открывалось, никому не было ведомо, его никто не понимал. Что значит для жителя Москвы или Петербурга слово «моряна»? Ничего. Неясно даже, что это – самородок или очередной неологизм Хлебникова. А в дельте это слово звучит весомо и конкретно, и грозно даже, как и должно звучать ветру с моря. «Задует моряна – навалит птицы…»
При всем этом Хлебников еще осознанно противится только-русскости взгляда на мир: «мозг земли не может быть только великорусским». Он требует «материковости сознания», подключенности его к культурным и мифологическим традициям других народов. Если учесть, что и помимо этих требований Астрахань начала века представляла из себя настоящий этнический и языковой котел, где булькало невиданное словесное варево и многие восточные слова ходили наравне с русскими, без перевода (во времена Хлебникова, например, матросы на частных судах еще назывались по-персидски музурами, зимние бураны – по-татарски – шурганами, и даже названия некоторых птиц имели восточный «дубликат»), то уже не покажется странным, почему разработка золотой жилы литературоведения «русские поэты и Восток» немыслима в обход такой глыбы, как Хлебников. Он словно пытается все богатство окружающего его языкового контекста использовать в поэзии, сделать достоянием литературы. Через него говорят и не знающие письменности кочевники, и жрецы заметенных песком городов. Лингвистические свидетельства Хлебникова так же достоверны, как находки археологов. До него лишь один человек, пораженный огромностью горизонта, распахнувшегося для него за Волгой, предпринял схожую попытку: заговорить на всех языках сразу или, по крайней мере, составить подробный их реестр. То был немец Петр Симон Паллас, волею императрицы Екатерины II ставший великим русским путешественником и помимо атласа растительности Российской империи и описания своих почти фантастических странствований издавший «сравнительные словари всех языков и наречий», собранных десницею всевысочайшей самодержицы. Хлебников пошел дальше, начав активно использовать все богатства оказавшегося под властью России языкового и образного материка…
Ознакомительная версия.