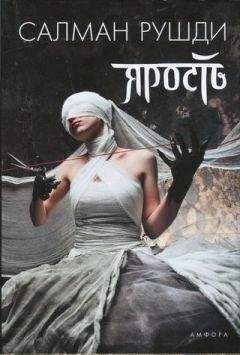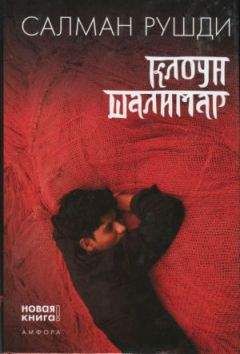— Эй ты, плоть бесчестья! Благодари судьбу, что я тебя не пришиб, не раздавил, как мокрицу!—А позади разноголосое эхо вторило:
…дьявольское семя…
…огненные стрелы…
…жизнью поплатился…
…как мокрицу…
Ибадалла и трое бдевших все ближе подходили к Омару, а тот стоял, окаменев, словно мангуста, завороженная коброй. А вокруг после двенадцатилетней спячки пробуждались слухи и сплетни. Вот Билал не выдержал, рванулся к мальчику и швырнул в него башмачную гирлянду. Как раз перед этим Дауд в семнадцатый раз пал ниц и поднимался, чтобы вознести к небу еще один вопль. Невольно тщедушный старик оказался меж Билалом и Омар-Хайамом. Никто и глазом моргнуть не успел, а злосчастная гирлянда уже висела на совершенно безвинной шее святого.
Омар-Хайам захихикал — такое случается и с перепугу. Мальчишки смеялись вовсю. Даже вдову обуял смех, она как могла сдерживалась, но смех просочился наружу вместе со слезами на глазах.
В ту пору люди не очень-то жаловали слуг божьих. Это теперь им будто бы воздается по заслугам, так нас стараются уверить.
Маулана Дауд поднялся, он готов был в клочья разорвать обидчика. Однако быстро смекнул, что с великаном Билалом ему тягаться бессмысленно, и обратил свой гнев на Омар-Хайама, даже потянулся к нему скрюченными, цепкими, как клешни, руками… Но тут мальчика ждало спасение. Сквозь толпу протолкался мужчина, оказалось, что это учитель, господин Эдуарду Родригеш. Как было уговорено, он приехал за новым учеником. А за его спиной лучилось ясное солнышко омаровой жизни, и наш герой мигом забыл, каких бед он счастливо избежал.
— Познакомься, это Фарах, — представил девочку учитель. — Она на два года старше тебя.
Солнышко глянуло сперва на Омара, потом на старика с гирляндой на шее — он так разгневался, что забыл ее снять, — и, запрокинув голову, захохотало.
— Боже мой! Знаешь, золотце, — обратилась она к Омару (простим ей упоминание имени Всевышнего всуе), — сидел бы ты дома! У нас в городе и без тебя дураков хватает!
Школа военного городка, манящая прохладой и белизной, точно холодильник, стояла посреди нестерпимо зеленой лужайки. Пышно зеленели и деревья в школьном саду. Сахибы-ангрезы не жалели скудных запасов воды в городке, садовники целыми днями поливали из шлангов газоны и деревья. Напрашивался вывод: случись, засохнут и трава, и бугенвиллея, и тамаринд, и хлебные деревья окрест, странные бледнокожие существа из промозглой северной страны тоже вымрут в одночасье. В школе же взращивались цветы жизни: белые и желтые, и трехлетние малыши, и девятнадцатилетние детины. Но среди ребятишек от восьми лет и старше белых почти не сыскать, а выпускники, все как на подбор, оказывались смуглолицыми. Куда ж девались белокожие детишки? Может, их прибирала Костлявая? Или они пропадали без вести? Или враз кожа у всех темнела от внезапного избытка меланина? Ни то, ни другое, ни третье. Чтобы докопаться до истины, придется провести глубокое исследование: перелистать регистрационные книги пароходных компаний да дневники ветхозаветных старушек в далеком краю, который колонизаторы-англичане неизменно величают родиной-матерью — на самом же деле это родина всевозможных теток, кузин и прочей родни женского пола в глубоком девичестве. К ним очень удобно отсылать своих чад, дабы уберечь от вредоносного восточного воспитания… Однако такое исследование автору не по плечу, ему остается лишь побыстрее отвести взор от докучливых вопросов.
Школа есть школа. Всякий знает ее быт и нравы. Омар-Хайама ожидала участь любого толстуна: над ним насмехались, обстреливали катышками напитанной чернилами промокашки, придумывали прозвища, изредка колотили — в общем, ничего примечательного. Но скоро обнаружилось, что Омар-Хайам ничем не отвечает на колкости относительно своего необычного появления на свет, и ребята поутихли. Лишь иногда на школьном дворе ему перепадал стишок-дразнилка. И такое внимание вполне устраивало Омар-Хайама. Стыд у мальчика так и не проснулся, зато вновь пробудилась тяга к уединению. Исчезая из поля зрения сотоварищей, он радовался, чувствовал себя невидимкой. Оказавшись на обочине школьной жизни, он принялся наблюдать однокашников. И тихо ликовал: на его глазах происходили взлеты и падения кумиров, кто-то из зануд-зубрил проваливался на экзамене.
Но то были зрительские радости. Однажды, стоя в тенистом . уголке школьного двора, он увидел, как за кустами вовсю милуются парень с девушкой из старшего класса. Непонятное довольство теплой волной накатило на нашего героя, и он решил впредь выискивать похожие объекты для наблюдения. Новое занятие целиком поглотило его. Шло время. По вечерам Омар-Хайаму уже разрешалось гулять и вне школьного двора. Мальчик набирался опыта и мастерства в любимом деле: сквозь неплотные бамбуковые шторы следил он, как совокупляются почтальон Ибадалла и вдова ремесленника, тот же Иба-далла — с Зинат Кабули, закадычной подругой вдовы (правда, уже в другом месте). Не удивился он и трагической развязке — ведь для него тайное давно стало явным. Однажды в овраге сошлись почтальон, кожевник да крикливый Билал и до смерти истыкали друг друга ножами. Удивился он другому (да и то по молодости): Зинат и Фари-да, вроде бы заклятые врагини-соперницы, вдруг сошлись и зажили вместе, не ведая до конца дней ни ссор, ни мужской любви.
Раньше Омар-Хайам наблюдал жизнь в телескоп, теперь она предстала крупным планом. Не побоимся назвать нашего героя вуайером, ведь еще Фарах Заратуштра укоряла его за страсть к подглядыванию (тогда речь шла о телескопе). Обличив, таким образом, Омар-Хайама, мы должны признать, что он ни разу не был пойман за столь неблаговидным занятием, не в пример одному удальцу из Агры. Тот, если верить легенде, одолел высоченную стену, чтобы посмотреть, как строят Тадж-Махал, за что и был ослеплен. Зато наш Омар-Хайам смотрел (то бишь подсматривал) в оба, и взору его явилась неисчерпаемо богатая и замысловатая вязь человеческой жизни. Он познал горькую радость — жить чужими чувствами.
Но подстерегало его и одно разочарование: тайна, оберегаемая матушками двенадцать лет, открылась в школе за двенадцать минут. Ребята рассказали ему и о легендарном пиршестве в доме сестер Ша-киль, и о беззастенчивом поведении сестер, в упор разглядывавших офицеров-усачей, и о том, чем кончился пир… Послушный материнским наказам, Омар-Хайам никогда не затевал драк, даже после столь обидных россказней. На нем почивала благодать высокой морали, и колкости его не задевали. Но с той поры он начал присматриваться к господам-ангрезам, выискивая сходные со своими черты лица, выражение глаз. Вдруг кто выдаст себя случайным взглядом или жестом? И обнаружится доселе неведомый родитель? Но старания Омара оказались тщетны. Может, отец давно умер или уехал и живет себе где-нибудь на берегу моря, и у ног его плещут волны щемящих душу воспоминаний о славных днях, оставшихся далеко за горизонтом. А пальцы теребят реликвии тех лет: охотничий рог слоновой кости, кривой нож, фотографию (охота на тигров с махараджей). Бережно хранит он их на полках своей старческой памяти, вслушиваясь в замирающее эхо былого, будто в шум далекого прибоя, который дарит морская раковина… впрочем, все это домыслы. Отчаявшись опознать отца истинного, мальчик решил выбрать наиболее подходящего для этой роли из, так сказать, имеющихся в наличии. И без колебаний и сомнений отдал пальму первенства господину Эдуарду Родригешу, учителю, недавно обосновавшемуся в К. Несколько лет назад он приехал в городок на автобусе: белоснежный костюм, белая щегольская шляпа, пустая птичья клетка в руке, беззаботная походка.
И еще одно — последнее — отступление: об омаровой страсти подглядывать. Невольно она передалась и всем трем матушкам. К той поре ослабла их железная триединая воля и, не в силах удержаться, они выспрашивали у Омар-Хайама (когда тот, случалось, оставлял мирскую суету), что сейчас носят женщины, о чем толкуют в городе, не вспоминают ли о них. Изредка они прятали лица в шаль, видно, мало-помалу возвращалось то запретное, давно отринутое чувство, так мешавшее их затворничеству. Итак, матушки подглядывали
за жизнью не ахти какими надежными сыновними глазами — ведь о многом он, естественно, умалчивал. А результат такого опосредованного вуайерства очевиден и неизбежен: моральная сила матушек стала слабеть. Не с той ли поры начали они помышлять о «повторении пройденного»?
Господин Эдуарду Родригеш походил на карандаш из своей огромной коллекции — тонкий, востроликий. Никто не знал, сколько ему лет. При разном освещении лицо менялось: то он походил на шустроглазого мальчишку, то на изрядно пожившего горемыку, с головой окунувшегося в прошлое. Какие обстоятельства вынудили его приехать с юга, оставалось загадкой. Прямо с автобусной станции эта таинственная личность проследовала в гарнизонную школу и выговорила-таки себе место! В тот же день!