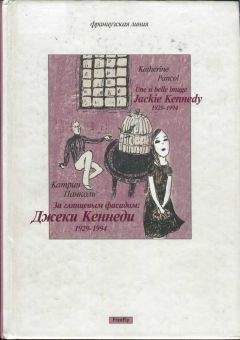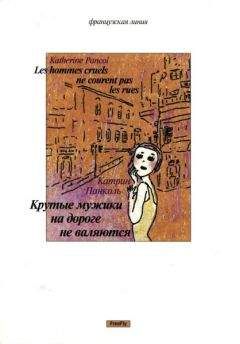— Ох! В самом деле?
— Да-да. И это не очень сексуально!
Он защитился рукой — мать собиралась его шлепнуть, — и она, смеясь, направилась в душ.
«Я люблю его, люблю этого малыша! Это моя звездочка, моя ясная зорька, мой король-бродяга, моя кровиночка, моя соломинка, мой громоотвод…» Она напевала это, намыливаясь душистым мылом ручной работы с апельсином и корицей. Воняет тиной! Да ни за что на свете! Воняет тиной! Кошмар какой! Ее кожа была гладкой и душистой, и она благодарила бога, что дал ей такое тело: длинное, стройное, мускулистое. Вечно мы забываем поблагодарить родителей за то, что они подарили нам при рождении. Спасибо папе! Спасибо матери… Она никогда не осмелилась бы сказать это матери. Она звала ее «мать», никогда не разговаривала с ней ни про сердечные дела, ни про телесные нужды и при встрече сдержанно целовала в щеку. Даже не в обе щеки. Поцеловать два раза — это уже нарушение этикета. Странно вот так сохранять дистанцию с собственной матерью. Но Ширли привыкла. Она научилась распознавать нежность за выпрямленной спиной и лежащими на коленях руками. Она узнавала ее во внезапном приступе кашля, поднятом плече, напряженной шее, выдающей пристальное внимание, в блеске глаз, в движении пальцев, теребящих край юбки. Она привыкла, приспособилась, но иногда ей чего-то недоставало. Трудно, когда нельзя расслабиться, случайно выругаться, тронуть за плечо, когда нельзя стащить у матери джинсы, помаду или щипцы для завивки. Однажды — это было во времена человека в черном, когда горе переполняло ее и она уже не знала, как ей отделаться от него, от опасности, которую представлял этот человек… она попросила мать о встрече и обняла ее, и мать ей это позволила, хоть и была в ее объятиях суха и холодна, как деревяшка. Вытянув руки вдоль туловища, напрягая затылок, она старалась сохранить подобающую дистанцию между собой и дочерью… Мать выслушала ее, ничего не сказала, но предприняла кое-какие действия. Когда Ширли узнала, что сделала для нее мать — только для нее одной, — она расплакалась. Крупные слезы катились по ее лицу — она выплакалась за все те разы, когда не имела возможности проявить чувства.
Всю тяжесть подросткового бунта Ширли пришлось выдерживать отцу. Мать просто молча ее осудила… Мать наморщила лоб, когда Ширли вернулась из Шотландии с маленьким Гэри на руках. Ей был двадцать один год. Мать слегка отпрянула от нее — это означало «shocking», и прошипела, что считает такое поведение «неприемлемым». «Неприемлемым».
Мать использовала королевский лексикон и никогда не выходила из себя.
Ширли вышла из душа в небесно-голубом пеньюаре и белом тюрбане из полотенца.
— А вот и великий паша!
— Ты, как я погляжу, в превосходном настроении…
— Об этом я и хотел с тобой поговорить… Но прежде попробуй и скажи — как тебе моя яичница? Я под конец еще побрызгал все малиновым уксусом, купленным в предбаннике «Харродса».
Гэри бесподобно готовил. Он проявил этот свой талант во время пребывания во Франции, где ребенком постоянно ошивался на кухне и наблюдал, как мать, надев белый фартук, стряпает, как пробует еду деревянной ложкой, вопросительно подняв бровь. Он был способен съездить на другой конец Лондона за нужным ингредиентом, новой кастрюлей или свежим сыром.
Ширли положила себе немного жареного бекона, кусочек сосиски, жареный грибок, немного картошки. Ткнула вилкой в желток, попробовала. Полила все блюдо соусом из свежих помидоров с базиликом.
— Браво! Потрясающе! Ты, видать, ни свет ни заря начал готовить!
— Ничего подобного, я пришел всего час назад.
— Ты с дуба рухнул, что ли? Явно случилось что-то важное…
— Да… Вкусно, правда? А чувствуется малина?
— Просто объедение!
— Ладно… Рад, что тебе понравилось, но я пришел не затем, чтобы говорить о кулинарии…
— Жаль, мне так нравится, когда ты стряпаешь…
— Я тут видел Ее Величество Бабушку и…
Гэри называл королеву Ее Величество Бабушка.
— …Она теперь не против, чтобы я учился музыке. Она навела справки, направила своих чутких ищеек по следу «обучение музыке» и нашла мне преподавателя по фортепиано…
— Он будет давать мне частные уроки, поставит меня на должный уровень, а затем я отправлюсь в Нью-Йорк в очень хорошую школу… если занятия окажутся успешными. Она открывает мне кредит, значит, стала воспринимать меня всерьез!
— Она сделала все это для тебя?!
— Она там, внутри, под своим панцирем, очень добрая. В общем, план такой: полгода я занимаюсь музыкой с преподавателем, а потом оп-па — еду в Нью-Йорк, где записываюсь в эту их знаменитую школу, которая, по ее словам, просто лучшая из лучших.
Уедет. Он уедет. Ширли глубоко вздохнула, набрала воздух в легкие, словно так мог лопнуть тугой узел, стянувший грудь. Ей нравилось, что сын свободен и независим, что живет отдельно в большой квартире в Гайд-парке, неподалеку от нее. Ей нравилось узнавать, что девицы от него без ума, что все эти избалованные мамзели бегают за ним высунув язык. Она втайне кичилась этим, делая вид, будто ей все равно, — но сердце при этом билось сильнее, заходясь от гордости. «Мой сынок… — думала она с улыбкой. — Мой сынок…» Она даже могла позволить себе сыграть в благородство, изобразить либеральную мамашу без комплексов… Но ее вовсе не обрадовало, что вскоре он уедет очень, очень далеко, и не по ее решению, а по решению бабушки. Ширли почувствовала себя уязвленной.
— А могу я сказать пару слов? — спросила она, стараясь не выдать раздражения.
— Ну конечно, ты же мама!
— Ну спасибо.
— Я считаю, что Ее Величество Бабушка впервые проявила благоразумие, — повторил Гэри.
— Понятное дело, раз она с тобой согласилась!
— Мам, мне двадцать лет… Это не тот возраст, в котором принимают разумные решения! Дай мне возможность заниматься музыкой, мне только этого и надо, безумно хочу узнать, есть ли у меня талант. Коли нет, займусь приготовлением сосисок с картошкой…
— А что за препода она тебе нашла?
— Пианист, забыл его имя, восходящая звезда… Еще не знаменит, но недалеко то время… Я с ним познакомлюсь на следующей неделе.
Значит, все решено без нее. Он спрашивал ее мнение лишь потому, что не хотел обидеть, но выбор уже сделан. Она невольно оценила деликатность сына и почувствовала благодарность, а буря в сердце постепенно утихла.
Она протянула руку, погладила его по щеке.
— Ну так… ты не против?
Он едва не кричал.
— При одном условии… если ты будешь действительно серьезно заниматься: фортепиано, сольфеджио, теория музыки… То есть это будет настоящая работа. Спроси у бабушки, в какую школу ты мог бы записаться в ожидании поездки в Нью-Йорк… Она должна и это знать, раз уж сама всем занялась!
— Но ты же не…
Он осекся, не желая ранить ее словами.
— Не ревную? Нет. Немного огорчена, что обошлись без меня…
Вид у него был расстроенный, и она заставила себя рассмеяться, чтобы он успокоился.
— Да нет же! Все в порядке. Просто ты вырос, и мне нужно свыкнуться с этой мыслью…
«Надо пригасить свою любовь.
Не давить. Не душить его в объятиях.
Раньше мы были почти парой. Еще один персонаж, с которым мы составляли пару. Жозефина, Гэри, что-то мне больше везет в тайных союзах, чем в официальных. Мне больше свойственны тайная нежность и душевное родство, чем всякие там свадьбы с кольцами и прочая мишура».
— Но я всегда буду рядом, мамочка… Ты же знаешь.
— Да все отлично! Я просто старая ворчунья…
Он улыбнулся, схватил зеленое яблоко, впился в него белыми крепкими зубами, и ее пронзила боль: он явно почувствовал облегчение. Послание достигло адресата. «Мне двадцать лет, я молод, я хочу свободы и независимости. Хочу делать со своей жизнью все, что хочу. И прежде всего не хочу, чтобы ты в нее вмешивалась. Дай мне жить по-своему, набивать шишки, взрослеть и изнашиваться, формироваться и деформироваться, гнуться и ломаться, пока я не найду себе подходящее место».
«Нормально, — подумала она, в свою очередь хватая зеленое яблоко, — он хочет сам за себя отвечать. Не использовать меня в качестве посредника. Ему нужно присутствие мужчины. У него ведь не было отца. Если им будет преподаватель музыки, флаг ему в руки. Я удаляюсь».
Гэри вырос в окружении женщин: мать, бабушка, Жозефина, Зоэ, Гортензия. Ему необходим мужчина. Мужчина, с которым можно говорить на мужские темы. Говорить по-мужски. Но о чем разговаривают между собой мужчины? И только ли разговаривают?
Она прогнала эту ядовитую мысль и вгрызлась в зеленое яблоко.
Она станет спокойной мамашей. Спокойной и легкой. Спокойной, как танк, и легкой, как воздушный шар.
Будет петь о любви к сыну, плескаясь в душе. Будет петь во все горло, как поют о любви, в которой невозможно признаться.