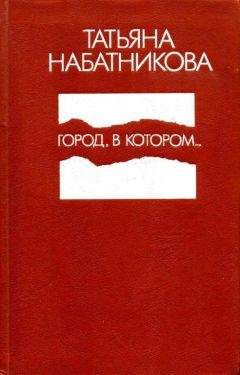Когда я вспомнила, то была уже другая любовь, пресуществленная в готовность жертвы и спасения. Та теща и ее несчастная дочь — не знают, бедные, что есть судьба и рок, и потому, громоздят ошибки, и не мне ли, знающей, их предостеречь? А от моих притязаний на него я отказалась, какое может быть «отдельное» счастье перед лицом того грозного и высшего факта, что бог — есть! Я, свидетель, теперь лишь руками развожу на эгоизм бывших своих устремлений.
Я отправилась в их полнометражный дом в центре города. Кто их еще вразумит, как не я?
Мадам оказалась моей ровесницей, даже и посолиднее (возможно, за счет того, что она врач, и благоприобретенная важность добавляет ей пару-тройку лет). Но нас, свидетелей, этой важностью не проймешь. Говорю ей: «Бог есть. Продолжайте размен квартиры, но отселяйте не мужа, а мать». А она гордо так вскидывается (да, уж это так: познанная истина делает человека смиренным, а заученные догмы — гордым), и — по какому, дескать, праву, он что, подослал вас?
«Я никогда не видела вашего мужа. Я лишь говорила с ним однажды по телефону про обмен. А право у меня есть, поверьте».
Она — красиво негодовать: «На старости лет оставить мать одну? Вне семьи? Чтоб она у меня не дожила своих лет?» (Все догмы пышны и красивы, как тропические цветы. А запаху-то!..)
«Вата мать — спирофаг, пожиратель духа. Она мнит себя центром жизни и одобряет в ней только то, что выгодно лично ей. Чувство обиды в ней не прекращается: мир постоянно у нее в долгу. Мир безобразно не считается с ее болями!»
«Не смейте говорить о моей матери в таком тоне! И кто вы, вообще, такая?»
«Я говорила с вашей матерью один раз по телефону — хотите, я опишу, как она выглядит: метр пятьдесят два, восемьдесят девять килограммов, в очках от дальнозоркости с разными линзами, и вечно уличающий тон «Ишь, чего захотел!» А если вы и мужу так же красиво заявляли: «Не смей говорить о моей матери…», то я понимаю, почему он отсюда ушел и не торопится вернуться. Демагогия этих формул неотразима, а он слишком бережный человек, чтобы растоптать чужую, пусть даже и демагогию, он предпочитает отойти подальше!»
Моя визави присмирела. Видимо, я угадала рост ее матери. Такие совпадения деморализуют.
«И ваша маменька сейчас не где-нибудь, а рыщет по гастрономам, и каждую добытую рыбину она поставит себе в неимоверную заслугу, а весь остальной мир в очередях стоять не любит, а пожрать не дурак!»
«Довольно! — простонала моя собеседница. И снова: — Он подослал вас».
«Судьба, — говорю, — явила мне случай убедиться в руководстве жизнью высшими силами. Но мы — не марионетки, мы сотрудники высших сил. А став сотрудниками, мы отвечаем уже за все, что на нашем пути. За вас и за вашего мужа. Не ищите в этом корысти. Ведь бог — есть!»
Не знаю, поверила ли она. Мы простились.
Что у них вышло потом, тоже не знаю. Возможно, старуха людоедка докушала-таки свою дочь. Но я сделала все, что могла.
Когда же мы отправились в бюро обмена, чтобы оформить наконец наши документы, то оказалось, что мы с моей обменщицей — однофамилицы. Да, и инициалы у нас совпадают…
— Ах, зайдите, пожалуйста, в Дом быта! Ваши часы готовы! — оповестила я с опозданием.
ЛУЧШИЙ ИЗ ИВАНОВ НА РУСИ ВСЕГДА ДУРАК
Я приехала сюда уже под вечер, исполнила порученное, и тотчас надо было мне назад.
Начался понемногу дождь, потом он врезал, я вбежала под навес автобусной остановки. Никого там больше не было, день кончился, и все давно сидели по домам.
Грянул гром, да сильно, а дело было в сентябре, едва успела я перекреститься, как под навес вбежал с велосипедом, спасаясь от дождя, какой-то дяденька, фуфайка на нем уже немного вымокла.
Это я потом сообразила: он появился вместе с громом…
Теперь мы молча ждали тут вдвоем. Шоссе покрылось лужами, дождь толок в них грязь, покорно мокла лошадь у ворот на крайней улице. Вскоре стало ясно: конца этому не будет.
Пробежали две машины в нужную мне сторону — к Еткулю, но я напрасно поднимала руку.
— Как в городе: не останавливаются… — огорченно подал голос человек с велосипедом. В голосе было столько тревоги за меня, сколько я и сама не отводила себе. «Вмиг по речи те спознали, что царевну принимали…»
Я посмотрела на него внимательней и поняла его характер.
— В городе-то как раз останавливаются: заработать, — сказала я как можно беспечней, чтоб он поубавил тревоги.
Из сумки на руле его велосипеда торчала коробка стирального порошка. Я хотела для разговора спросить, где он достал, но вовремя опомнилась: такой немедленно отдаст и скажет, что ему вообще не нужно.
Лицо его, заросшее как придется черной бородой, было из тех — особенных, томимых вечной думой…
Гром гремел все пуще, от страха я по полшажочка ближе придвигалась к моему соседу: от него исходило спасение — волны заботы, какую в детстве чувствуешь от матери, а после уже ни от кого и никогда.
— В Челябинске живете? — кашлянул. — Я одно время тоже там жил, — и махнул рукой: дескать, как и везде, завидовать нечему.
Смотреть на него было нельзя: он смущался и отворачивался. Мерзнуть тоже было нельзя: такой сразу начнет мучиться: предложить свою фуфайку, да вот достойна ли фуфайка?.. — и уж я крепилась не дрожать. Я смотрела, как в лужах густо рвались торпеды упавших капель, вздымались вверх оплавленные столбики воды.
— Автобусов больше не будет?
Он ответил не сразу: жалел меня, но, как честный человек, отступил перед правдой:
— Нет. — И сразу принялся заметать следы этого безнадежного слова, рассказывая, что в его деревне в двух верстах отсюда был раньше ключ, его хотели почистить, но что-то в нем нарушили, и умер ключ, теперь живут на привозной воде.
Говорить он, видно было, не охотник, но надо ж как-то отвлекать меня от бедственного транспортного положения. Почему-то ему казалось, что это его долг. Поглядывать на шоссе и тайной молитвой призывать машину — это он тоже брал на себя. И целомудренно берег меня от своего прямого взгляда. Прямой взгляд — это ведь всегда вторжение в чужое сердце, смятенье духа, он это знал и если смотрел, то лишь украдкой.
Машины вовсе перестали появляться: кто тронется из дому в такую пору, в такую грязь и дождь? Ехал почтовый фургон, мой товарищ в беспокойстве даже выступил из-под навеса вместе со своим велосипедом, не подумав о стиральном порошке, но не было в кабине места.
Сам бы он давно уехал, несмотря на дождь и на стиральный порошок, но как он бросит тут меня одну.
Запас оптимизма, позволявший хулить жизнь, был на исходе, настала пора прихорашивать мир, чтоб терпимей стало на него глядеть, и он принялся мне рассказывать, какие уродились огурцы, их убирать не успевали, а под капусту нынче не запахивали столько удобрений и, значит, наконец ее не отравили.
Проехала еще одна машина. Он страдал. Я тоже, потому что выносить такой напор заботы мне отродясь не приходилось, и уже я должна была утешать его, чтоб он не мучился так за безотрадность мира, который он не в силах сделать для меня пригляднее.
— Они не останавливаются, потому что дождь: я грязи нанесу, — заступалась я за этих людей, а он, чтоб я не подумала про мир, что в нем все теперь такие, говорил:
— Я сам был шофером, я за всю жизнь копейки ни с кого не взял, вот в фуфайке хожу.
Ну, про фуфайку он зря — как будто извиняясь за нее. Как будто боясь, что за фуфайкой я его не разгляжу. А я даже вижу: он бы меня на велосипеде в Челябинск отвез, но (опять же): достоин ли велосипед?..
И вот мчится по дороге от Еткуля честной казак Сережа. Притормозив, он машет рукой и радостно кричит сквозь дождь моему товарищу — дескать, здорово, Ваня! А мой товарищ не признал сперва честного казака, оглядывается на меня — думает, это мне из машины машут. А я оглядываюсь на него, потому что мне пока что Сережа совершенно незнаком.
Пока мы так переглядывались, сбитые с толку, честной казак Сережа развернулся и подрулил к нам, высовывается из «Жигулей»:
— Ваня, привет, ты что тут делаешь?
Тут мой сосед его узнал, заулыбался и тотчас стал тревожно хлопотать:
— Вот, отвези, надо отвезти! — указывая на меня почтительным взглядом.
Сомнений никаких не было на лице честного казака Сережи, что со мною теперь все будет в порядке — ему важней, что будет с Ваней! Но до себя ли Ване — он бережно подталкивал меня в машину, а я с сожалением оглядывалась, говоря ему «до свидания» так, чтобы можно было различить-за этим все мои «спасибо», скажи которые вслух, я бы смертельно смутила его, и все мои «жаль расставаться», и все мои «какой вы человек!..»
Я захлопнула наконец дверцу, и честной казак Сережа нажал на акселератор, улыбкой прощаясь с Ваней, а Ваня застенчиво радовался за меня, опустив глаза.
Я пристегнула ремень.