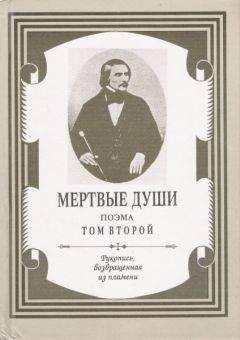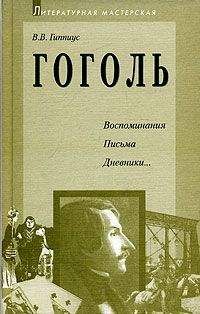Кто-то вздрогнул среди чиновного собрания; некоторые из боязливейших тоже смутились.
— Само по себе, что главным зачинщикам должно последовать лишенье чинов и имущества, прочим — отрешенье от мест. Само собою разумеется, что в числе их пострадает и множество невинных. Что ж делать? Дело слишком бесчестное и вопиет о правосудии. Хотя я знаю, что это будет даже и не в урок другим, потому что наместо выгнанных явятся другие, и те самые, которые дотоле были честны, сделаются бесчестными, и те самые, которые удостоены будут доверенности, обманут и продадут, — несмотря на всё это, я должен поступить жестоко, потому что вопиет правосудие. Знаю, что будут меня обвинять в суровой жестокости, но знаю, что те будут ещё спасены от более тяжких мук, что ожидают их в иной жизни, ежели покаются и понесут наказание нынче, в жизни земной. Потому мне не оставлено выбора. Я должен обратиться теперь только в одно бесчувственное орудие правосудия, в топор, который должен упасть на головы.
Содроганье невольно пробежало по всем лицам.
Князь был спокоен. Ни гнева, ни возмущенья душевного не выражало его лицо.
— Теперь тот самый, у которого в руках участь многих и которого никакие просьбы не в силах были умолить, тот самый бросается теперь к ногам вашим, вас всех просит. Всё будет позабыто, изглажено, прощено; я буду сам ходатаем за всех, если исполните мою просьбу. Вот моя просьба. Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаниями нельзя искоренить неправды: она слишком уже глубоко вкоренилась. Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и потребностью даже и для таких людей, которые и не рождены быть бесчестными. Знаю, что уже почти невозможно многим идти противу всеобщего теченья. Но я теперь должен, как в решительную и священную минуту, когда приходится спасать своё отечество, когда всякий гражданин несёт всё и жертвует всем, — я должен сделать клич хотя к тем, у которых ещё есть в груди русское сердце и понятно сколько-нибудь слово «благородство». Что тут говорить о том, кто более из нас виноват! Я, может быть, больше всех виноват; я, может быть, слишком сурово вас принял вначале; может быть, излишней подозрительностью я оттолкнул из вас тех, которые искренно хотели мне быть полезными, хотя и я с своей стороны, мог бы также сделать <им упрёк>. Если они уже действительно любили справедливость и добро своей земли, не следовало бы им оскорбиться на надменность моего обращения, следовало бы им подавить в себе собственное честолюбие и пожертвовать своей личностью. Не может быть, чтобы я не заметил их самоотверженья и высокой любви к добру и не принял бы наконец от них полезных и умных советов. Всё-таки скорей подчинённому следует применяться к нраву начальника, чем начальнику к нраву подчинённого. Это законней по крайней мере и легче, потому что у подчинённых один начальник, а у начальника сотни подчинённых. Но оставим теперь в сторону, кто кого больше виноват. Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю; что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих; что уже, мимо законного управленья, образовалось другое правленье, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия; всё оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как <ни> ограничивай он в действиях дурных чиновников приставленьем в надзиратели других чиновников. Всё будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстанья народ вооружался против <врагов>, так должен восстать против неправды. Как русский, как связанный с вами единокровным родством, одной и тою же кровью, я теперь обращаюсь <к> вам. Я обращаюсь к тем из вас, кто имеет понятье какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно представляется, и мы едва <различаем правду ото лжи, а добро ото зла. Но вспомнить, что не для зла приходит в этот мир человек, не для зла рождены вы русскими людьми, не зло заповедано нам отцами нашими, любившими и лелеявшими эту землю. Так что же мы, их дети, делаем с землёю своею, за что отдаём её на поругание бесчестием. Разве есть у нас другая земля, есть другая родина, кроме Руси, которую обираем мы в угоду своим низким прихотям и страстишкам. Поверьте мне, что мы и есть погибель России, из нас, точно из гнилого семени, прорастут на земле нашей плевелы, которые вырваны будут с корнем тем сеятелем, что ждёт доброго урожая. Нас проклянут наши потомки, и Господь отвернётся от нас, живущих и творящих дела свои во зле. Поэтому призываю вас ещё раз опомниться, оглянуться на стези ваши и решить, куда вы собираетесь прийти, бредя этими стезями: к гибели и позору, либо к чистоте и справедливости, и помнить, что стези ваши слагаются вместе, и как ручейки сливаются в одну полноводную реку, так и они слагаются в один большой путь, которым и идёт Россия, и только от вас, запомните, только от каждого из вас зависит этот её путь, ибо вы будете виною грядущей её гибели. Я не знаю, какие ещё слова мне употребить для вашего убеждения. Я сказал всё, что мог, и жду от вас ваших слов, — закончил свою речь князь и оглянул стоящих вокруг него чиновников.
Тяжёлое молчание повисло в зале. Ни один взор не был устремлён на князя. Все глядели в пол, и все лица пылали огнём стыда, но никто не решался первым преступить порога молчания. Да, собственно, чего ожидал генерал-губернатор? Того, что прожившие в большинстве своём половину жизни мужчины расплачутся, точно дети, и со слезами на глазах потянут к нему руки в раскаянии и поползут на коленях, вымаливая прощение? Но этого-то ведь никак и не могло произойти. Если бы князь попробовал собрать их не всех вместе, а пригласить каждого по отдельности и каждому в отдельности сказать все те слова, что обрушил он только что на головы этих несчастных, убогих людей, привыкших к подличанию, наветам и мздоимству, может быть, тогда слова его и возымели бы действие; и пусть не все, пусть даже и не многие, но покаялись бы перед ним в совершённых ими грехах и, может быть, даже и исправили бы пути своя, но так, прилюдно, никто не осмеливался поднять глаза на князя, никто не в силах был заговорить.
Да, собственно, его сиятельство и сам почувствовал это. Он ещё немного помолчал, а затем сказал уже несколько иным тоном, в котором сквозили и скука и усталость:
— Хорошо, я понимаю, что не дождусь от вас ответа, потому и не буду настаивать, но повторяю: по возвращении моём из Петербурга дам я вам месяц для того, чтобы не словами своими, а делами убедили вы меня в искуплении той вины, того позора, до которого сами же себя довели. Теперь же ступайте и запомните, что я тут вам сказал.
Раздалось шарканье по паркету многих ног, лёгкое покашливание и сопение — всё то, что сопровождает движение молчаливой толпы людей. Князь, стоящий спиною к выходящим из залы, услышал, как легонько стукнули, закрываясь за ними, створки высоких дверей, а затем наступила тишина, более полная, нежели та, в которой лишь несколько мгновений назад стояло и потело со страху несколько десятков людей. Одни лишь пристенные часы в углу кабинета нарушали её своим пощёлкиванием. Вслушиваясь в ровный ход часов, его сиятельство подумал: «Вот оно — уходит время, уходит жизнь, уносясь с каждым мгновением, и всё так просто в этом мире, и на все, казалось бы, бесчисленные вопросы, что ставит она перед нами, есть всего лишь несколько простых ответов, а главные из них — это „вера“, „справедливость“ и „любовь“, а мы не видим этой простоты, простота кажется нам слишком скучной, порою даже ложной, и мы ищем на всё ответов сложных, почитая их истинными. И запутываемся, запутываемся в их сложности, точно в паутине. Запутываемся и идём ко дну».
На следующее утро его сиятельство отбыл в Петербург. Дорогою карета его обогнала коляску, в которой катил Павел Иванович — прочь из города, прочь из губернии. Увидевши несущуюся во след ему карету, сопровождаемую ротою гусар, наш герой не на шутку струхнул, решивши поначалу, что, может быть, это погоня за ним, что вот сейчас схватят его, скрутят лихие, скорые на расправу гусары, бросят во внутрь грозного экипажа и вновь упрячут в острог, забреют в каторгу, и не увидит он более белого света, сгинет где-нибудь в Сибири, не оставивши после себя ни доброго имени, ни доброго семени. Но карета, мягко журча окованными полозьями, пронеслась мимо него, обдав порывом холодного ветра, перемешанного с брызгами жидкого снега и грязи, летевших из-под её полозьев и из-под копыт резвых гусарских коней. Грязь налипла на платье Павла Ивановича, окропила его лицо, попала в глаза, но, не чуя того, опустился он со вздохом облегчения на кожаные подушки коляски и, слыша тонкий звон в ушах и гулкие удары сердца где-то во глубине груди, стал мелко и часто креститься, подымая глаза к серому, забранному унылого вида облаками небу.