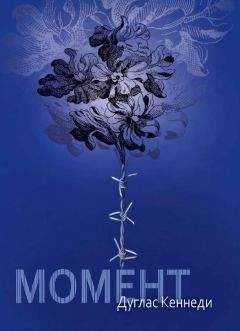Вот почему я не приняла предложенный мне фрау Людвиг блокнот, в котором я могла бы записывать свои мысли в те первые недели, пока меня «интервьюировали». Я боялась, что они станут читать мой дневник, когда меня нет дома. В конце концов, на то они и разведчики, и меня предупреждали на той стороне, что они будут радушными и дружелюбными, но все равно проверят, насколько я чиста.
— Тот факт, что ваша история настолько трагическая, — говорил мне Штенхаммер, — что вас ни за что посадили в тюрьму… да еще отобрали ребенка…
— Но вы же действительно посадили меня ни за что, — возразила я. — И действительно отобрали ребенка…
— Тогда почему вы вчера подписали согласие на добровольное усыновление?
Мне захотелось крикнуть: «Потому что вы меня заставили, сказали, что, если я не дам согласие на усыновление Йоханнеса, вы начнете уголовное преследование, подадите в суд на лишение меня родительских прав, и тогда меня навсегда лишат сына».
— По крайней мере, — сказал Штенхаммер, — когда вы докажете свою преданность республике, искупите свою вину, вопрос о возвращении вам Йоханнеса может быть рассмотрен положительно. Если все пройдет хорошо, вы получите его обратно в течение восемнадцати месяцев. Но это зависит исключительно от эффективности вашей работы. Вы должны понимать, что вам придется лгать людям, которые будут добры к вам, будут считать вас героиней, жертвой «тоталитарного режима» — так они называют наше эгалитарное общество, где ни один ребенок не голодает, где бесплатная медицина для всех, где существуют высшие стандарты образования, где ценят и субсидируют искусство, где труд, а не деньги, решает все…
Пока он сыпал этими пропагандистскими банальностями, я мысленно спорила с ним.
Всё, что ты описываешь — отсутствие нищеты, бесплатные больницы, великолепные бесплатные школы, — существует в каждой Скандинавской стране. Но, в отличие от нашей маленькой республики, там не лишают своих граждан свободы перемещения, не сажают в тюрьму за то, что кто-то осмелился выступить против политики государства. И они не отнимают детей у матери, которая виновата лишь в том, что ее психически нездоровый муж совершил безрассудный поступок.
Но ничего этого я не сказала, лишь повторила:
— Я сделаю все, что вы просите. И верю, что вы сдержите свое обещание вернуть мне сына, если я справлюсь с работой.
В глубине души я понимала, что надеяться на это глупо; теперь, когда Йоханнеса отдали семье сотрудников Штази, наверняка бездетных, приемные родители уже не захотят с ним расставаться. Я знала и то, что Штенхаммеру нельзя доверять, он был коварным манипулятором, и все козыри были у него на руках. И это было тяжелее всего — сознавать, что ему совершенно безразлична моя судьба, он играет в свою игру, и я в ней лишь пешка. Но он предлагал мне надежду — а что у меня еще оставалось, кроме надежды?
Я не стану подробно описывать три недели ежедневных «бесед» с фрау Йохум и герром Ульманом, скажу только, что они проходили в вежливой и цивилизованной манере. И опять мне предлагали «фаустовскую сделку» — благополучную жизнь на Западе в роскошной квартире, настоящие джинсы «Левис», красивую одежду и косметику, достойную работу (собеседование должно было состояться через пару дней), неплохую сумму «подъемных», пока я не начну сама зарабатывать. Взамен они хотели получить от меня информацию. Их интересовало буквально все — начиная от методов ведения допросов, которые применял Штенхаммер, и заканчивая тем, сколько сигарет «Мальборо» он выкуривал ежедневно. Они хотели знать, какого цвета стены в тюрьме, где меня держали, что за линолеум лежит на полу, какова высота клетки, где мне разрешали заниматься физкультурой, какое записывающее оборудование использовалось во время допросов. Даже задали вопрос: «Штенхаммер заваривал себе какой-то особенный сорт кофе?»
Информация, говорили они, это сила. Но после трех недель таких дотошных расспросов мне уже хотелось крикнуть: «Информация — это тоска!» Но, конечно, я не могла этого сделать. Мне нужны были эти люди в качестве союзников. Хотя и педантичные до занудства, они оба вели себя очень достойно, были любезны и внимательны ко мне.
Разумеется, я для них была источником информации. Или entree[109] в закрытый мир. Ведь я попала в самую воронку этого страшного смерча и теперь могла рассказать обо всем, что видела и испытала там.
Как же мне хотелось открыться фрау Йохум, признаться в том, какую миссию мне уготовили на той стороне. Но я боялась, что они тут же поместят меня в категорию «отбракованного товара» и вышвырнут обратно — и тогда моей судьбой уж точно станет тюрьма (Штенхаммер угрожал мне этим в случае разоблачения «врагом»), а надежда вернуть сына окончательно рассеется. Между тем он обещал мне…
Бывают моменты, когда мне просто хочется умереть. Выйти из дому, дойти до станции метро и броситься под поезд. Когда я думаю об этом, мне кажется, что только так можно избавиться от нескончаемой боли, покончить с этой вечной агонией. Потому что я живу в ней каждый час, каждую минуту. В агонии этой вынужденной двойной жизни. В агонии одиночества. В агонии разлуки с сыном и сознания того, что его держат передо мной в качестве приза, который я должна получить за хорошую работу.
Йоханнес останавливает меня всякий раз, когда я задумываюсь о самоубийстве. Я говорю себе, что, пока существует хотя бы малейшая возможность вернуть его, я должна жить.
Я не могу отказаться от своей надежды. Потому что это все, что у меня есть. Мой сын — это все, что у меня есть. Кроме него, у меня нет ничего в этой жизни. Ничего.
* * *
Эта комната… Я не хотела переезжать сюда. Мне хотелось остаться в той роскошной норке, где кто-то каждый день убирал мне постель, менял полотенца и белье, готовил вкуснейшую еду (одни овощи чего стоили, к тому же я и не знала, что бывают такие свежие продукты), пополнял корзину с фруктами. Яблоки, персики, бананы, клубника — все, что было экзотикой по ту сторону Стены, здесь присутствовало в изобилии. Я не переставала задаваться вопросом — может, усиленное питание положено только тем, кто находится в этом закрытом комплексе БНД? Как у нас в стране, где партаппаратчикам открыт доступ в спецраспределители, где они покупают дефицит — от свежих фруктов до сигарет «Мальборо». Поразительная система. «Диктатура пролетариата», как называл ее Ленин, в которой элита — управляющая диктатурой в интересах социального равенства — следила за тем, чтобы народ довольствовался малым и не роптал, а сама вела себя как правящий феодальный класс, пользуясь привилегиями, недоступными для рабов. Неудивительно, что Юрген сошел с ума. Он думал, что блистательный талант послужит ему защитой от безжалостной системы. Эти люди ненавидели творческую интеллигенцию, даже тех, кто пел дифирамбы республике, зная, что в их сердцах всегда живет дух свободолюбия и инакомыслия. В самом деле, кто доверяет писателям? Мало того что они обнажают правду жизни (как говорил Юрген), так еще осмеливаются произносить вслух то, о чем остальные только думают.
Вот такой поток мыслей вызвали у меня свежие фрукты. Я почему-то была уверена, что сладкая, спелая клубника по утрам была положена мне лишь как особому «статусному» гостю, источнику важной информации. Но вот однажды фрау Людвиг предложила мне прогуляться по окрестностям. Я обнаружила, что мы находимся на окраине города, по соседству с тюрьмой Шпандау. Но район был обжитым и зеленым, с красивыми особняками и современными многоквартирными домами. Фрау Людвиг сказала, что это рабочий район, но магазины ломились от продуктового изобилия. Я понимаю, насколько наивно и «по-коммунистически провинциально» звучат мои комментарии. Но это правда: при виде огромных соцветий брокколи, помидоров размером с кулак, двадцати сортов шоколада возле кассы у меня глаза на лоб полезли. Такой шикарный выбор продуктов был доступен даже в самом маленьком магазинчике. Кто-то на моем месте возбудился бы от возможностей, которые открывались перед ним. Но я думала лишь об одном: да, я оказалась за границей, но я по-прежнему не свободна. Потому что меня связали по рукам и ногам надеждой на воссоединение с Йоханнесом.
И моя квартира в этом закрытом комплексе… она была такой уютной, здесь я чувствовала себя спокойно и в полной безопасности. Но я понимала, что вскоре мне предстоит вернуться в мир суровый и опасный. Опасный потому, что придет день, когда меня вызовет их «контакт» в Западном Берлине. И тогда…
В беседах с моими покровителями я не скрывала своего страха перед внешним миром. И это не было игрой. Я действительно испытывала ужас перед тем, что меня ожидало за стенами этого уютного гнездышка. Фрау Людвиг и фрау Йохум сообща старались заверить меня в том, что моя реакция вполне естественная, те же самые чувства испытывали все политзаключенные, которых они принимали здесь, кому помогали интегрироваться в западное общество. Фрау Йохум сказала: