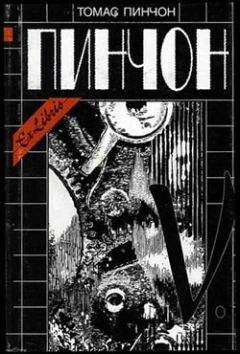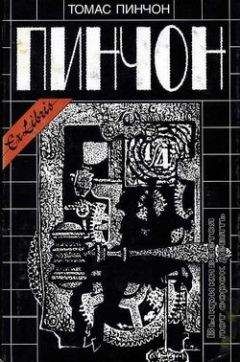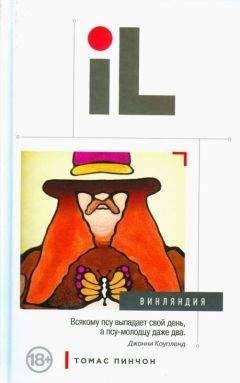– Откуда ты знаешь, что там уже обитает новая душа? Откуда ты знаешь, когда душа входит в плоть? Откуда ты знаешь, что у тебя самой есть душа?
– Все равно аборт – это убийство собственного ребенка.
– Ребенок, хрененок. Сейчас там лишь сложная белковая молекула, и больше ничего.
– Хоть ты и очень редко моешься, но от нацистского мыла, на которое пошла одна из шести миллионов загубленных еврейских душ, ты бы не отказался.
– Ну, ладно, – пришел в ярость Слэб, – объясни, в чем здесь связь.
После этого разговор перестал быть логичным, но фальшивым и стал фальшивым, но эмоциональным. Они тужились, как пьяницы перед рвотой, изрыгали всевозможные избитые истины, удивительно не подходившие к ситуации, затем огласили чердак бессвязными и бессмысленными воплями, словно пытаясь выблевать собственные внутренние органы, хотя таковые производят полезную работу, только оставаясь внутри.
Когда солнце село, Эстер прекратила разносить по пунктам ущербную мораль Слэба и, растопырив пальцы с острыми ногтями, пошла в атаку на «Датский сыр № 56».
– Давай-давай, – подбодрит Слэб. – Это улучшит текстуру. – Он уже куда-то звонил. – Уинсама нет дома. – Положил трубку, тут же нервно схватил и набрал справочную. – Где можно достать триста долларов? – спросил он. – Нет, банки уже закрыты… Я против ростовщичества. – И процитировал телефонистке что-то из «Cantos» Эзры Паунда. – А почему, кстати, все телефонистки говорят в нос? – Рассмеялся. – Ладно, как-нибудь попробую. – Эстер вскрикнула, сломав ноготь. Слэб повесил трубку. – Ответный удар, – сказал он, – Детка, нам нужны три сотни. У кого-нибудь да найдутся, это уж точно. – Он решил обзвонить всех знакомых, у которых были счета в банке. Через минуту список был исчерпан, а финансовое обеспечение поездки Эстер на юг нисколько не приблизилось. Эстер шарила по комнате в поисках бинта. В конце концов замотала палец туалетной бумагой, которую закрепила резинкой.
– Я что-нибудь придумаю, – пообещал Слэб. – Верь мне, малышка. Ведь я гуманист. – И оба понимали, что она поверит. А как же иначе? Ведь она доверчива и наивна.
Таким образом, Слэб сидел и размышлял, а Эстер мурлыкала себе под нос какую-то мелодию, помахивая в такт обернутым в бумагу пальцем, – возможно, это была старинная любовная песня. Оба ждали (хотя ни за что в этом не признались бы), когда Рауль, Мелвин и остальная Братва соберутся на очередную пьянку; а тем временем краски на громадной картине ежеминутно менялись и отражали все новые световые волны, восполняя собой последние лучи солнца.
Рэйчел, занятая поисками Эстер, к началу вечеринки сильно опоздала. Семь лестничных пролетов вели на чердак, и на каждой лестничной площадке проходившую Рэйчел встречали разнежившиеся парочки, вдребезги пьяные юноши и задумчивые типы, делавшие загадочные пометки в книгах, позаимствованных из библиотеки Слэба, Рауля и Мелвина; все они, словно пограничники на посту, обязательно останавливали девушку и наперебой сообщали, что самое интересное она уже пропустила. Рэйчел узнала, что именно она пропустила, пробиваясь на кухню, где обосновались Самые Достойные.
Мелвин, бренча на гитаре и импровизируя слова на народный мотив, пел хвалебную песнь своему славному сожителю, великому гуманисту Слэбу, который есть не кто иной, как а) реформатор профсоюзов и новое воплощение Джо Хилла [247]; б) лидер мирового пацифистского движения; в) бунтарский дух, уходящий корнями в древние традиции Америки; г) непримиримый борец с фашизмом, частным капиталом, республиканской администрацией и Уэстбруком Пеглером лично [248].
Пока Мелвин восхвалял Слэба, Рауль мимоходом, как бы в скобках к песне, разъяснил Рэйчел причину этого славословия. Оказывается, Слэб просто решил привлечь народ и теперь, дождавшись предельного заполнения кухни, взгромоздился на мраморный унитаз и потребовал тишины.
– Эстер тут забеременела, – объявил он. – Ей нужны триста долларов, чтобы поехать на Кубу и сделать аборт. – Пьяная Братва разулыбалась до ушей, расчувствовалась, подбодрила Эстер, основательно порылась в карманах и спонтанным проявлением общей гуманности вынесла на свет Божий мелочь, потертые банкноты плюс несколько жетонов метрополитена, а Слэб собрал добычу в старый пробковый шлем с греческими буквами, завалявшийся после какой-то студенческой попойки.
Ко всеобщему удивлению, набралось 295 долларов с мелочью. Слэб торжественно выудил десятку, занятую за пятнадцать минут до своей речи у Фергуса Миксолидийца, который на днях получил стипендию Фонда Форда и теперь страстно жаждал рвануть в Буэнос-Айрес, поскольку у США с Аргентиной нет соглашения о выдаче преступников.
Если Эстер и выражала устный протест против этого мероприятия, то никаких свидетельств этому не зафиксировано уже хотя бы потому, что в кухне было слишком шумно. Закончив сбор пожертвований, Слэб передал шлем Эстер, и затем ей помогли встать на унитаз, с которого она произнесла короткую, но трогательную благодарственную речь. Толпа разразилась аплодисментами, Слэб проревел что-то вроде «В Айдл-уайлд» [249], вслед за этим их с Эстер подняли на руки и понесли с чердака на лестницу. И лишь один помогавший тащить тела студентик, новичок Шальной Сцены, крякнул в тот вечер не в тон, робко предложив плюнуть на все эти заморочки с поездкой на Кубу и просто сбросить Эстер с лестницы, после чего у нее случится выкидыш, а они смогут потратить собранные деньги на новую пьянку. Студентику быстренько заткнули пасть.
– Милостивый Боже, – сказала Рэйчел. Никогда еще не доводилось ей видеть столько красных пьяных рож сразу, столько блевотины, столько вина, пролитого на линолеум. – Мне нужна машина, – обратилась она к Раулю.
– Тачку, – заорал Рауль – Четыре колеса для нашей Рэйч. – Но Братва уже исчерпала запасы щедрости. Призыва никто не услыхал. Возможно, заметив, что Рэйчел отнеслась к поездке на Кубу без особого энтузиазма, все решили, что она помчится в Айдл-уайлд с намерением задержать Эстер. Ей не дали ни одного колеса.
И только тогда, ближе к рассвету, Рэйчел подумала о Профейн. Его смена, наверное, уже закончилась. Милый Профейн. На протяжении всей суматошной вечеринки эпитет таился где-то глубоко в подкорке, а теперь расцвел, и она не смогла этому противиться, но его обволакивающей успокоительной силы все же не хватило для четырех футов и десяти дюймов ее тела. И потом, она все время помнила, что у Профейна машины тоже нет.
– Ладно, – сказала Рэйчел. Она размышляла о прирожденном пешеходе Профейне, у которого никогда не было машины. Он перемещается с помощью собственной энергии, которая порой передается и ей. Погодите, что же это получается? Выходит, она не вольна в своих поступках? Выходит, существует своеобразная форма налога на то, что приобретает сердце, – форма крайне запутанная, испещренная непонятными словами, и разбираться в ней можно все двадцать два прожитых Рэйчел года. А на самом деле все еще более сложно, поскольку в принципе она имеет полное право подобную декларацию не подавать, и налоговая полиция грез даже не подумает ее за это преследовать, но… Ох уж это «но». С другой стороны, стоит только начать, стоит сделать самый первый шаг – и придется отдавать больше, чем получаешь, в результате чего обнажается сокровенное «я» и возникает колоссальная неловкость, которая может завести Бог знает куда.
Удивительны те края, где случаются подобные оказии. И воистину поразительно, что таковые оказии происходят вообще. Рэйчел решила позвонить. Телефон был занят. Но она могла подождать.
Профейн, заглянувший к Уинсаму, застал там трех незнакомых красавчиков и Мафию, одетую лишь в надувной лифчик; они играли в придуманную Мафией игру под названием «Музыкальные одеяла». Заключалась она в том, что пластинку, на которой Хэнк Сноу [250] пел «Конец моим мучениям», останавливали где попало. Профейн залез в холодильник, взял пиво и едва подумал о том, чтобы позвонить Паоле, как телефон ожил.
– Айдл-уайлд? – переспросил Профейн. – Наверное, можно будет взять автомобиль Руни. «Бьюик». Только я водить не умею.
– Я умею, – успокоила Рэйчел. – Жди.
Профейн тоскливо посмотрел на веселую и бодрую Мафию с ее партнерами, лениво спустился по пожарной лестнице и пошел в гараж. «Бьюика» не было. Стоял только запертый «триумф» МакКлинтика без ключей. Профейн уселся на капот – неодушевленный предмет, стоявший в окружении неодушевленных родичей из Детройта. Рэйчел примчалась через пятнадцать минут.
– Машины нет, – сказал Профейн. – Мы пролетели.
– О, дьявол. – И она рассказала, почему ей нужно в Айдл-уайлд.
– Не понимаю, зачем так переживать. Хочет, чтобы ей выскребли матку, – пусть едет.
Тут Рэйчел должна была сказать, что Профейн бесчувственный сукин сын, треснуть его и отправиться искать транспортное средство где-нибудь в другом месте. Но сейчас ее привела к Профейну нежность и новое умиротворяющее – пусть даже временное – ощущение покоя, и она попыталась объяснить.