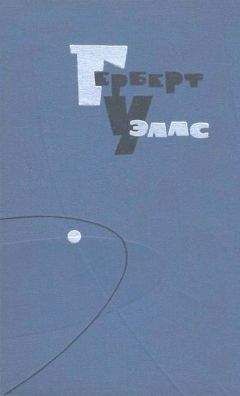Неплохо сказано. Мы, кстати, готовим публикацию стихов Грицмана в начале будущего года.
Олеся Николаева. Двести лошадей небесных. — “Знамя”, 2006, № 5.
...................................................................
…Так трудись, душа, разыскивай в этом пепле среди бурьяна, —
над тобою месяц молоденький ножик доблестный из кармана
достает: горит, серебряный, осветив дорогу кривую,
чтоб нашла наконец ты свою “осанну” и “аллилуйю”!
Ах, хоть кем — хоть юродивою прикидывайся,
хоть важной какой особой,
но найди мне этот единственный мой, особый
сокровенный ключик, клочок письма из иного края.
Там тебе прекрасно написано: “Радуйся, дорогая!”
(“Сожженный архив”)
…Кажется, когда эти стихи сдавались в набор, Олеся еще не знала, что она стала вторым лауреатом национальной премии “Поэт”. Для нее самой и для ее читателей так и вышло — радость. Забавное вышло эхо — от сокровенных стихов к открытому многим и многим — событию.
Вл. Новиков. Школа одиночества. К 70-летию Виктора Сосноры. — “Звезда”, 2006, № 4.
Процитировав эмоционально-горький фрагмент рассказа Ольги Новиковой “Питер и поэт” (см. “Новый мир”, 2003, № 6), Вл. Новиков пишет:
“Вот Бродский — при всем его индивидуализме — людей вокруг себя объединял, и сейчас он продолжает сплачивать бродскофилов. А этот даже близких разлучает. Каждого из нас — мордой в свое собственное одиночество, в свою персональную трагедию.
Ни для кого не сделал исключения вечный затворник, обитатель Дома Балета, а потом — „проспекта Удавленников”. Бытовой, обыденной речи у него просто нет. Собеседник — весь мир, все человечество. Так в повседневной жизни вел себя еще, быть может, только Виктор Шкловский. Потом мы Шкловского спросим, что он думает о Сосноре. Тот, уже заглянувший в потусторонние бездны, ответил: „Его очень любили Асеев и... Маяковский”. И хотя тут явная хронологическая неувязка, по гамбургскому счету — верно.
С Маяковским Соснора встречался в тридцать седьмом году. Да, именно так. Маяковский в своем тридцать седьмом (1930) написал: ”Уже второй, должно быть, ты легла. А может быть, и у тебя такое”. Соснора в своем тридцать седьмом (1973) продолжил: „Который час? Легла ли, не легла. Одна ли, с кем-то, — у меня — такое!” Это был не просто постмодернистский палимпсест, а репетиция гибели в стихотворении из тридцати семи строк…”
Памяти Алексея Хвостенко. — “Дети Ра”, 2006, № 10 (14) <http://www. detira.ru>.
Тематический номер. Все (!) материалы в нем посвящены исключительно Хвосту: тут и проза, и “визуальная поэзия”, и драматургия, и коллажный ряд, и воспоминания, и эссе, и интервью… Из “документов” меня поразили не столько нежные мемуары “гражданской жены Хвостенко” (как ее здесь аттестуют) Елены Наумовны Зарецкой, сколько расшифровки ее разговоров с А. Х. — его уважительно-сдержанные “отфутболивания” более или менее надоедливых вопросов типа “что бы ты пожелал нынешним молодым?”. И за самими вопросами, и за хвостовским отбояриванием стоит, между прочим, нежная и тихая любовь. Все это хоть и непонятно зачем представлено, а вышло целомудренно, да еще и с неожиданным портретом А. Х., проступающим за этой словесной массой. И это здесь почему-то на месте.
Контрапункт номера — последние записки умирающего от пневмонии Хвоста, из больницы, — факсимиле его записочек на бланках больничных карт. “…Почему ты сама не пришла? К моему соседу пускают. Может быть, и тебя пустят?” И — за три часа до смерти: “Леночка, я хотел бы завтра выписаться. Приходи пораньше…” Теперь это все — то ли “ под ”, то ли “ над небом голубым…”, теперь уже никогда не скажешь: “живая легенда”. Очень его жалко — было в нем, несмотря на все человеческие риски, что-то очень чистое и даже детское.
“У меня к вам большая просьба…”. Деловое письмо Б. Пастернака. — “Наше наследие”, 2006, № 77.
Не вошедшее в одиннадцатитомник изысканно-вежливое письмо к чиновнику СП СССР с просьбой перенести фамилию бывшей жены из первого списка во второй — при выселении из дома Герцена на Тверском бульваре, т. е. отсрочить . Из комментария сына поэта Евгения Пастернака : “В 1934 году был создан Литературный институт, через несколько лет получивший имя Горького. Заведение, вначале очень скромное, занимало несколько комнат в главном здании. В 1937 году многие жители дома были арестованы, освободившиеся квартиры занимали новые поселенцы. <…> C расширением Литинститута <…> дом Герцена стали освобождать от старых жильцов, были составлены списки очередности. Мамочка попала в первый список на выселение весной 1954 года. Я тогда служил в Кяхте — на границе с Монголией, мама собиралась ко мне на лето. С приходом Хрущева армию начали сокращать, и у меня крепла надежда на демобилизацию, к которой я рвался уже много лет. Болезненно относившийся ко всяким просьбам у начальства, отец уступил маминым мольбам и написал публикуемое здесь письмо. Ей не у кого было искать заступничества, и по старой памяти она надеялась на то, что в Союзе писателей прислушаются к словам Пастернака. Письмо подействовало, и маме дали отсрочку на год, в течение которого периодически ей предлагали разные варианты, совершенно неприемлемые. Мы переехали весной 1955 года, через несколько месяцев после моего освобождения из армии и возвращения в Москву. Мама согласилась на квартиру в угловом доме на Большой Дорогомиловской, недалеко от Киевского вокзала, с которого папа регулярно ездил к себе в Переделкино, каждый раз заходя к нам по дороге…”
Александр Ткаченко. Спаситель безнадежных, или Можно ли быть хорошим и не спастись. — “Фома”, 2006, № 4.
“Хорошие люди — спасаются. Плохие соответственно — погибают. Такое понимание спасения — не редкость в современном мире. Все тут, вроде бы, ясно, логично и не нуждается в пояснениях. Но давайте попытаемся разобраться: а кто же такой этот самый — хороший человек? По каким признакам можно определить, что вот этот человек — хороший и достоин спасения, а вон тот — так себе человечишко и спасения не заслуживает? <…> Представления о добре и зле в массовом сознании сегодня, к сожалению, весьма бессистемны, слабо осмыслены и не имеют под собою никакого основания, кроме личных предпочтений, расхожих стереотипов и мнений, сложившихся в силу влияния социальной среды, полученного воспитания и образования. То, что считает для себя порядочным один человек, другой, возможно, оценит как недолжный, нечестный поступок. Поэтому категории „хорошо-плохо” в светской этике сегодня все больше напоминают формулировку лесковского персонажа: „Что русскому хорошо, то немцу — смерть”. Можно, конечно, попытаться вывести четкие этические критерии из мнения статистического большинства. Но двадцатый век убедительно доказал, что в разделении людей на плохих и хороших ошибаться могут даже целые народы. А ошибки такого масштаба всегда чреваты колючей проволокой нового ГУЛАГа или печами очередного Освенцима. Но если мы обратимся к христианской этике, мы увидим еще более загадочную картину.
Дело в том, что в христианстве вообще нет понятия „хороший человек”. Ни в одной из двадцати семи книг Нового Завета это словосочетание не встречается ни разу. В христианстве человек не отождествляется со своими качествами и поступками. Иначе говоря, поступающий плохо не назван в Евангелии — плохим. Равно как и совершающий хорошие дела не определяется как — хороший. Более того, у христиан есть строгий запрет на определения подобного рода. Господь говорит: „Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете”. Поэтому очевидно, что критерии спасения следует искать там, где не происходит деления людей на плохих и хороших”.
Роза Хуснутдинова. Рассказы. — “Знамя”, 2006, № 5.
Их три: “Натюрморт с красной рыбой”, “Как бабки Лукерья и Гликерья незваных гостей спровадили” и “Очарование погожего летнего дня”.
Прозой таинственной (весьма известной и уважаемой в анимационных кругах) писательницы и сценаристки Розы Хуснутдиновой со мной однажды поделился Александр Павлович Тимофеевский, за что я ему очень признателен. По-моему, это фантастический талант.
Составитель Павел Крючков.
ИЗ ЛЕТОПИСИ “НОВОГО МИРА”
Сентябрь
15 лет назад — в № 9 за 1991 год напечатан роман Андрея Платонова “Счастливая Москва”.