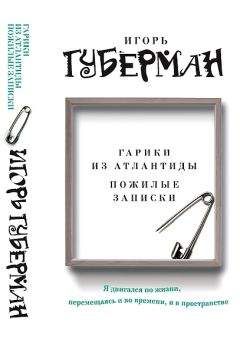— Такое впервые слышу, — Рубин уже весь был обращен к собеседнику, даже чуть перегибался через стол. — Вреден?
— Видите ли, — старик повел глазами по столу, словно отыскивая там ответ. — Знаете, есть люди, для которых коньяк пахнет клопами. А для меня — клопы напоминают о коньяке. У меня от лагеря остались воспоминания — не скажу, что радужные, но благодарные, что ли. Это было совсем не пустое время. Человеком я стал именно там. Хотя именно там легче всего перестать им быть, извините за неловкость фразы, я не литератор.
— А кто вы по профессии, Борис Наумович? — спросила Марина. — Я ведь уже сколько лет вас люблю, а так и не знаю, кто вы были до пенсии.
Старик засмеялся так хрипло и громко, что Рубин ощутил радость охотника, вышедшего на долгожданный след.
— Я, Мариночка, всю жизнь вождей рисовал, так что художником меня назвать нельзя. И афиши для кино. А в лагере — там я чего только не писал! Картину «Последний день Помпеи» знаете, конечно?
Рубин, к которому был обращен вопрос, кивнул.
— Моя работа! — гордо заявил старик.
— Извините, Борис Наумович, я в живописи не силен, только автор «Помпеи» — Брюллов вроде бы, — сказал Рубин.
— Да! — воскликнул старик. — Да! В музее которая висит — Брюллов, а в лагерной столовой на Воркуте — я!
За столом все дружно рассмеялись.
— И моя в полтора раза больше, — горделиво добавил Борис Наумович. — Потому что я под нее четыре месяца себе выторговал. Пока осматривался в лагере.
— Вы все годы на Воркуте провели? — спросил Рубин, колеблясь, не спугнет ли рассказчика, если достанет записную книжку.
— Нет, я прилично покочевал, — у старика исчезли в глазах насмешливые искры. — Я даже в Марфине был, в шарашке под Москвой. Там тоже много всякого рисовал.
— А для чего в шарашке художник? — спросил Маринин сослуживец. — Там ведь делом занимались?
«Откуда она его взяла? — подумал Рубин. — Ведь насквозь же виден человек. Или уже привыкла и не слышит?»
— О, там я очень большие работы делал, — старик снова оживился. — Заказы у меня были крупные. Например, приносят холсты — уже натянутые на подрамник. А с ними список: Левитана — три копии, Поленова — три, Куинджи — четыре. И — названия картин. С репродукций я их писал. Исполнение требовалось мастерское. Меня оттого и дернули из лагеря, что я к тому времени себя как отличный копиист зарекомендовал.
— Не подделок от вас требовали? Холсты не старые были? — быстро спросил Рубин.
— Нет! — ответил старик. — Откровенные копии. Только хорошего качества. Я сам спрашивал, для чего, а мне говорят: делай и не лезь не в свое дело. Я объясняю: давайте я и рамы тогда сделаю, у меня же больше вкуса. Мне холсты штатский привозил, но сдается, что он чин имел. А образование техническое, это он как-то сам сказал. Потом уже, когда привык. Чай приносил, сахар, даже как-то письмо для жены взял, только очень боялся. А про картины объяснил: это мы дарим иностранным гостям столицы. В посольствах они вешают, в домах своих, в гостиницах эти картины висеть будут, так что не посрамите Россию, Борис Наумович, вашу как-никак родину. А уж рамы подберем мы сами, не беспокойтесь, есть у нас сотрудники со вкусом. Что, не догадались еще?
— Нет, — растерянно ответила за всех Юлия Сергеевна и беспомощно посмотрела на остальных.
— Эти мои точные копии для отвода глаз были, — снисходительно пояснил старик. — А в рамы они микрофоны засобачивали, свою аппаратуру, чтобы подслушивать. Я бы тоже не догадался, это мне потом уже наш куратор шепнул. А второй художник со мной там был — Кирилл Зданевич, из Грузии.
— Тот, который собирал картины Пиросманишвили в двадцатых? — изумленно спросил Рубин. Уже год, как он ходил по старикам, но заново каждый раз искренне удивлялся, когда всплывала в лагерях знакомая, чем-нибудь известная фамилия. А происходило это так часто, словно в истории России вечно присутствовала эта мясорубка и вся страна раньше или позже, но протиснулась сквозь ее стальное сито.
— Он самый, — Борис Наумович закивал головой так радостно и удовлетворенно, словно мимолетное прикосновение к имени Пиросманишвили и ему делало честь, и всем присутствующим.
Теперь уж Рубин просто не мог не вытащить записную книжку. За несколько минут он украдкой — одно-два слова — внес туда все, что услышал сегодня, и приятное испытал чувство уверенности: ничего не пропадет, и не надо будет мучиться утром, вспоминая. Даже выпить теперь можно спокойно. И налил себе, выпил, закурил и продолжал слушать. Старик повествовал со вкусом и удовольствием.
— Умирал я, собственно говоря, два раза в лагере. Сперва в сорок втором, тогда я, в сущности, уже умер.
Старик поймал изумленный взгляд Марины и молодецки расправил пушистые седые усы, делавшие его похожим на кота из кукольного театра.
— Да, правда-правда. Доходил-доходил и умер. Ноги у меня распухли тогда, две колоды неподъемные стали, еле волочил их. Уже с работ меня общих сняли и перевели в барак для доходяг. Огромный такой сарай, нар на всех не хватало, мы где попало валялись. Прямо посреди сарая — костер небольшой, возле него сидели доходяги из уголовных — и такие тогда были, — в карты резались днем и ночью. В основном игра шла на одежку тех, кто уже умер. Интересные, между прочим, уголовники были. С политическими статьями. Да-да. Когда Берия сменил Ежова, то сперва на послабление пошло. Отпустили кое-кого, брали меньше, это старики хорошо помнят. А из лагерей, видать, начальство рабочую силу запросило: работать некому. И загребли тогда массу ворья всякого. Не на кражах их ловили, а брали уже известных, кто раньше сидел, кто на учете был, и лепили им статьи политические: социально опасный элемент и социально вредный элемент. Чтобы лагеря пополнить. Урки, между прочим, так обиделись, что эти аресты так и называли: бессовестный набор.
Рубин засмеялся, и старик замолчал, с одобрением глядя на него. Рубин разлил вино и водку, все молча подняли свои рюмки в сторону Бориса Наумовича. Тот поигрывал по столу пальцами, ожидая возможности продолжать.
— А в конце барака была стенка хилая, скорей перегородка, но с дверью. Туда оттаскивали умерших. Каждый день нас пересчитывали очень тщательно, потому что все мы норовили за умершего соседа его пайку получить; иногда удавалось. Там уже замерзшие лежали трупы, туда тепло не доходило. А в бараке можно было выжить, хоть наша рвань бушлатная к доскам нар и примерзала по утрам, но ничего. Вот тут я и умер. Перетащили меня за перегородку, а я возьми и приди в себя. От холода, во-первых, а во-вторых, от запаха хлорки, там ее как раз насыпала какая-то падла из санчасти. То есть мой благодетель, сказать точнее. Возвратился я к жизни, а лежу голый уже — наверняка, думаю, ребята у костра мои тряпки в карты разыгрывают. Так и есть. Они мне даже не очень удивились, только спор поднялся шумный: имею я право взять карту и попытаться что-нибудь отыграть или нет. Потому что, с одной стороны, игра уже идет, а с другой — мои же шмутки разыгрывают. Победила справедливость, дали мне карту. А тут и фарт пошел: отыграл я свой бушлат обратно, а штаны мой друг мне отыграл. Тут начал я в себя вдруг приходить — от хлорки или от фарта, но только через две недели ушел своим ходом из барака доходяг; взяли меня в санчасть временно, а там за три месяца совсем оклемался. Тут вернулся со штрафной командировки мужик, которого я в санчасти подменял, меня погнали, и стал я снова доходить.
— Борис Наумович, вы ведь обещали что-то про еврейскую сплоченность рассказать, — Марине, кажется, стало плохо от ровного и веселого тона старика.
Борис Наумович бодро шевельнул седыми усами.
— К ней подхожу, слушайте внимательно, ребята. Плетусь я по зоне, еле ноги переставляю. Встречаю Полякова Эмиля Яковлевича, он бытовик был, проворовался где-то, в лагере человек влиятельный, начальник хлебопекарни. Доходишь, говорит, Борис? Дохожу, отвечаю, Эмиль Яковлевич. Ты, спрашивает он, еврей или полукровка? Что это вы мне расистские вопросы задаете, отвечаю я ему, еврей я чистой воды. Как бриллиант. Все, говорю, мои родственники сорвались из местечка как ошалелые и сделали в России революцию. А я, как видите, расхлебываю ихнюю кашу. Вы, Эмиль Яковлевич, я его спрашиваю, не из общества помощи жертвам революции? А то вот я перед вами — в чистом виде экземпляр. Так красиво я тогда, конечно, не говорил, еле-еле языком ворочал. Повернись-ка, говорит он, Борис, ко мне спиной. Поворачиваюсь. Что-то он на спине моей пишет, подложив фанерку, и дает мне клочок газеты. Неси, говорит, в хлеборезку прямо самому Полещуку, и желаю тебе счастья в цветущей жизни. Я плетусь к Полещуку. Сытая такая харя. С Западной Украины перед войной сюда попал. В хоре пел. Вы меня извините, друзья, я отвлекусь. Это я не от склероза, а попутно одну историю вспомнил, не пожалеете, что отвлекся. Вы знаете, за что власть не любит интеллигенцию? Не знаете. Или начнете объяснять подробно и длинно. А я знаю точно: за то, что интеллигенция не поет в хоре.