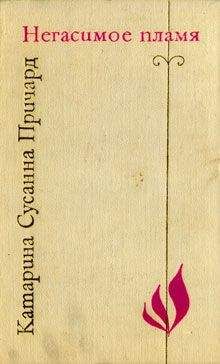— Нийл, кажется, считает само собой разумеющимся, что в ваши обязанности входит не допускать меня до выполнения моего долга.
Давид усмехнулся, вспомнив прощальный совет Нийла. И с нежностью глядя на Шарн, улыбнулся.
— Он знает, что я люблю вас, — грустно сказала Шарн. — И что я сделаю для вас все на свете.
— Меня беспокоит лишь одно, — Дэвид помедлил, обдумывая, как бы пояснее выразить свою мысль, — справедливо ли это по отношению к вам?
— Я ведь знаю, что вы не любите меня — не любите так, как я люблю вас, — печально отозвалась Шарн. — Но это и не столь уж важно… мы ведь можем остаться хорошими друзьями, какими были здесь.
— На неопределенное время? — лукаво воскликнул Дэвид. — Э, нет, дорогая. Я уже начинаю понимать, что это невозможно.
Он откинулся на подушки и, закрыв глаза, весь ушел в блаженный покой, навеваемый теплым солнечным днем, шелестящими у кромки леса кустами.
Шарн решила, что он уснул. Лесная тишь, пронизанная только щебетом и пением птиц, окутала их. Шарн думала о том, что ее попытка уговорить Дэвида быть вместе, потерпела окончательный провал. В этот момент он открыл глаза и улыбнулся.
— Поцелуйте меля, Шарн, — сказал он.
Она склонилась «нему, выронив из рук букетик фиалок. Свежими, нежными, как у ребенка, губами она коснулась его щеки. Губы их встретились, и у нее перехватило дыхание.
Дэвид снял с Шарн очки и крепко прижал ее к себе, чувствуя, как слабеет она в его объятиях. Уста их соединились в долгом трепетном поцелуе. Губы Дэвида требовательно и властно прильнули к ее губам. После слабого сопротивления она, словно цветок, открылась навстречу ему, вся во власти охватившего ее чувственного восторга. Он не стал противиться ответной страсти и весь отдался волне блаженства, которая захлестнула его и властно понесла навстречу жизни.
Он почувствовал мгновенный укол совести при воспоминании о бурных ласках, которые дарила ему Джан. Но тут же жгучее желание затмило собой все.
День уже клонился к закату; Дэвид выпустил Шарн из своих объятий, объятий, перед которыми померкли все ее возвышенные, поэтические представления о любви и страсти.
Вот то, чего я ждал, — насмешливо и вместе с тем радостно сказал Дэвид. — Понимаешь, Шарн, я не мог принять от тебя этого дара — твоей любви, пока не ощутил в себе ответного чувства… Не провести ли нам здесь еще несколько дней — пусть это будет наш медовый месяц? А уж потом вернемся к работе, а?
— О Дэвид! — только и могла выговорить Шарн.
— Я не желаю, чтобы кто-нибудь из наших друзей поглядел на тебя косо. — Он снова привлек ее к себе. — Или оскорбил тебя нехорошим словом. Как только вернемся в город, сразу же зарегистрируем наш брак.
Он принялся подбирать с земли рассыпавшиеся фиалки.
Шарн прижалась к нему, улыбаясь сквозь слезы.
— Может, мне все это только приснилось? — воскликнула она. — Или это явь?
— Клянусь всеми деревьями в лесу, всеми птицами, пчелами и дикими цветами, а также жизнью тех, кто борется за то, чтобы на земле царили мир и красота, — клянусь любить и беречь тебя, Шарн, до последних минут нашей жизни!
Он перевязал фиалки крепкой травинкой.
— А вот тебе и свадебный букет, — сказал он, протягивая ей фиалки.
Когда они вернулись домой, над лесом уже сгущались сумерки. Со стороны кустарника неслись дурманящие запахи мирта, сассафраса, кизила и папоротника. От разведенного Шарн тлеющего костра поднималась к небу тоненькая струйка дыма — словно курился фимиам. На западе над горизонтом в вечернем небе зажглась первая звезда.
— Погляди-ка, — радостно воскликнул Дэвид. — Она светит нам, словно далекая звезда той надежды, для осуществления которой мы отдаем все свои силы. Мы никогда ее не забудем — этот вечный залог нашей веры друг в друга.
Букетик фиалок выпал из рук Шарн. Чуть тронутый увяданием, лежал он на пороге лесного домика, наполняя вечерние сумерки тонким нежным ароматом.
Д. Ираминов
Писатель-борец
Катарина Сусанна Причард прожила долгую (восемьдесят пять лет), интересную и плодотворную жизнь. Еще в юные годы, решив стать писательницей, она сознательно направила свои устремления к тому, чтобы видеть больше, знать глубже, чувствовать сильнее заботы и радости, надежды и разочарования, тревоги и искания трудового народа, с которым была связана как своим происхождением, так и положением в обществе. Дочь провинциального журналиста и редактора, она не получила систематического и законченного образования и, подобно Максиму Горькому, прошла свои «университеты» среди простых людей, добывая так же, как они, кусок хлеба. Постоянное и тесное общение с народом научило ее с молодых лет не только умению ценить труд, создающий все богатство этого мира, но и понимать серьезность неустранимых противоречий между теми, кто трудится, и теми, кто присваивает плоды чужого труда.
Сразу же по окончании средней школы Катарина Причард занялась изучением жизни австралийской провинции, отправившись гувернанткой в один из маленьких городков, затем в той же роли к скотоводам в настоящую австралийскую глушь. Она понаслышалась немало былей и легенд об освоении богатых, но диких мест Австралии первыми поселенцами, познакомилась со знающими людьми и умельцами. После нескольких лет активного изучения настоящего и прошлого молодого энергичного и весьма своеобразного народа (Австралия долгое время была местом ссылки политических заключенных и уголовников из Англии), Катарина Причард отправилась через Америку в Англию, в Лондон, который рассматривался в те времена образованными жителями Британской империи как политическая, интеллектуальная и духовная Мекка, чтобы добиться именно там литературного признания. И в Лондоне она жила среди трудового люда, писала об их жизни я труде.
Близость к народу заставила ее волноваться его тревогами и вдохновляться его стремлениями, и уже в Лондоне проявилась готовность Катарины Причард не только писать о язвах капиталистического строя, но и активно бороться за их устранение. Побывав на фронте во Франции в первые годы мировой войны, она воспылала неугасимой ненавистью к войнам вообще. Война, бессмысленную жестокость которой Катарина Причард увидела и поняла, взволновала ее тем сильнее, что в нее все больше втягивались пока еще в качестве добровольцев сыновья далекой от Европы Австралии. Вернувшись на родину, Катарина Причард включилась в борьбу против официального участия Австралии в войне и прежде всего против стремления властей ввести «узаконенную» мобилизацию, чтобы посылать австралийскую молодежь на кровавую бойню не только в добровольном, но и в насильственном порядке. И хотя ее младший брат, как и многие другие молодые австралийцы, охваченные шовинистским угаром и «романтикой войны», добровольно надел военную форму и отправился в Европу, Катарина Причард продолжала еще активнее выступать против войны, вызвав враждебность властей. Убежденная страстность и самоотверженная искренность, с какой она разоблачала чудовищную преступность войны, завоевали молодой писательнице уважение широкой общественности страны.
Однако свою настоящую дорогу — дорогу писателя, ставящего свое перо на службу народу, — Катарина Причард нашла под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции. В своей великолепной автобиографической повести «Дитя Урагана» она описала это восторженно и ярко: «Проходя однажды вечером по мосту Принца, я увидела первые плакаты (рекламы очередного номера газеты с главной новостью. — Д. Я.), сообщавшие о революции в России. Итак, свершилось. Сбылась мечта изгнанников, с которыми я некогда встречалась в Париже. В тот вечер небо среди облаков сияло золотом, и все вокруг было пронизано золотистым светом. Мне в состоянии радостного и головокружительного возбуждения это показалось добрым знамением. Я не сомневалась, что революция — это событие, которое должно потрясти мир. Я чувствовала, что события, свершившиеся в России, должны оказать влияние на жизнь людей во всех странах, однако я тогда еще плохо представляла себе, каким образом революция найдет свое завершение в социалистическом государстве.
Из нападок печати на Ленина и вообще на большевиков можно было понять, что все эти люди руководствуются теорией Маркса и Энгельса. Не теряя времени, я приобрела все их сочинения, какие можно было достать в Мельбурне, и засела за их изучение. Наши споры с Кристианом (Джолли-Смитом), Иэрсменом и Баракки (деятели левого рабочего движения в Мельбурне; Иэрсмен стал позже первым секретарем возникшей в 1920 г. Коммунистической партии Австралии, — Д. К.) только подтвердили мое мнение, что из всех теорий, с какими мне довелось познакомиться, она единственная дает разумную основу для преобразования нашей социальной системы. Это открытие просветило мой ум. Оно давало ответ, которого я давно добивалась».