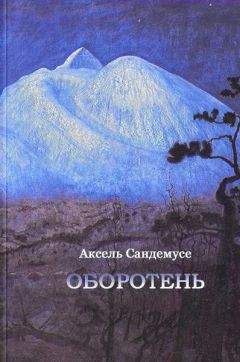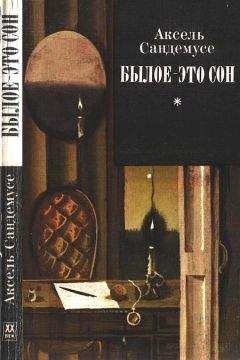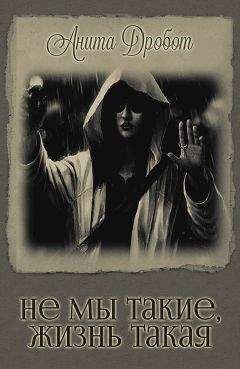Точно первого числа каждого месяца в течение тридцати шести лет
Эрлинг пил кофе с печеньем и смотрел на Густава, который никак не мог довести до конца историю о том, как у него украли шляпу. Это была очень запутанная история, но Эрлинг с почтением слушал старшего брата. Он невольно вспомнил сцену, которую однажды видел в зоологическом саду. За толстыми прутьями по клетке неутомимо ходил тигр. В углу клетки, уткнувшись носом в край корзины, лежал маленький терьер и следил глазами за тигром и за людьми. Эрлинг не поверил своим глазам — собачонка в клетке у тигра? В это время тигру принесли мясо и просунули его в клетку, тигр подошел к мясу. Собачонка как будто только этого и ждала. Она выскочила из корзины на середину клетки и громко залаяла. Тигр стыдливо отошел от мяса, виновато поглядывая на сердитую собачонку, которая тем временем занялась своим обедом, поданным ей отдельно в маленькой миске. Но стоило тигру сделать движение в сторону мяса, как терьер ощетинивался, лаял и испуганный тигр ретировался.
Наконец собачонка не спеша вылизала миску, последний раз тявкнула на тигра и улеглась в своей корзине. Тигр осторожно подошел к мясу и тут же был остановлен последним сонным «Гав!». После этого собачонка решила, что тигр уже поставлен на место, и больше не мешала ему есть.
Эрлинг спросил у служителя, как это получилось. Оказалось, у тигра было несчастливое детство. Мать невзлюбила его, и его отдали терьеру, у которого забрали щенков. Приемная мать с самого начала была очень строга с ним, и так как тигр не видел себя со стороны, он не знал, что вырос таким большим. Он помнил трепки, которые получал от приемной матери, и соблюдал осторожность. Собака, со своей стороны, тоже не замечала, что тигр вырос — ведь он рос медленно, — и пребывала в уверенности, что ей ничего не стоит задать ему хорошую трепку.
Густав завел историю о шляпе опять с самого начала.
— Она висела в рабочем бараке на гвозде. Я знаю, куда я вешаю свою шляпу. Шляпа была не новая, что верно, то верно, но как бы там ни было, это была моя шляпа. И вот…
Шляпу мог украсть каждый из тринадцати рабочих. Но у Густава были свои подозрения.
— И вот я совершенно спокойно сказал ему уже три недели спустя… да это было в субботу… И вот я спокойно сказал…
От печенья Эльфриды и ее невкусного кофе у Эрлинга во рту появился неприятный привкус. Он вдруг затосковал по обществу дяди Оддвара и юнги Янссона.
— Неприятно, когда такое случается на твоем рабочем месте, — продолжал Густав. — Словом, я очень спокойно снова заговорил о моей шляпе, но ты бы посмотрел на того парня! Ты не поверишь, но этот воришка замахал у меня перед носом кулаками и заорал, чтобы я заткнулся со своей клеткой для вшей. Так и сказал, но я сдержался. Правда, потом… потом я сказал ему, чтобы он был поосторожней, говоря о вшах, потому что, если уж говорить о вшах…
— А ты уверен, что это он украл шляпу?
— Уверен? А кто же еще? — Густав грозно уставился на Эрлинга. — Если человек не может повесить на место свою шляпу, это уже ни в какие ворота не лезет. Всегда не один, так другой…
Эрлинг догадался, кого имел в виду Густав, говоря «не один, так другой». Он имел в виду того, кто допустил ошибку, не прислушавшись в свое время к советам старших и опытных людей.
Эльфрида нервно семенила по комнате, проверяя, не валяется ли что-нибудь не на месте и не забыла ли она где-нибудь смахнуть пыль, но все было в порядке.
— Если б я знала, что ты придешь, — она выдвинула и снова задвинула стул, — я бы навела у нас порядок.
— Эрлингу хорошо как есть, — сказал Густав.
Эльфрида перестала искать неприбранные вещи.
— В последнее время квартирная плата опять выросла, — сказала она. — Все так подорожало, что уже невозможно жить.
— Вот-вот, — подхватил Густав. — А страдает в первую очередь рабочий человек.
Эрлинг отделался воображаемой пощечиной.
— Тридцать шесть лет, — Густав протянул руку с трубкой, — тридцать шесть лет. А это значит примерно четыреста тридцать раз первого числа каждого месяца или накануне, если первое число приходилось на выходной, я платил хозяину за квартиру. Тридцать шесть лет я живу в одной и той же квартире у одного и того же хозяина. Он живет здесь же этажом ниже.
— Неплохо, — заметил Эрлинг. — Я бы так не мог.
Наступило молчание, и Густав помрачнел. Эрлинг заслужил
этот укол со стороны брата, но ведь его ничем не прошибешь. Впрочем, кто не знает, что Эрлинг отличается легкомыслием?
Эльфрида поправила занавеску и нервно проговорила, смущаясь от собственной дерзости:
— Но ведь Эрлинг и не платит за квартиру, как мы…
Густав не смотрел на брата, он сидел с невинным видом,
взгляд его был устремлен в пространство. Вот оно что, подумал Эрлинг, вот почему Эльфрида заговорила о квартирной плате, но Густав не сразу понял ее тонкий дипломатический ход. Им опять не давал покоя дом Эрлинга в Лиере. Кому все-таки принадлежит этот дом, Эрлингу или нет? Этот вопрос был для них пыткой, которую они не могли вынести.
— Ну, кое-какие расходы по жилью есть у всех. — Эрлинг глянул в окно. — А вам никогда не приходило в голову переехать отсюда?
Густав встрепенулся:
— Ты с ума сошел! Скажи на милость, зачем нам переезжать? И без нас достаточно людей, которые не могут спокойно жить на одном месте!
Он рассердился, лицо у Эльфриды погрустнело. Густав был излишне резок, а в результате они и на этот раз не узнали, принадлежит ли Эрлингу тот дом, в котором он живет. Ей бы хотелось, чтобы этот дом принадлежал ему, но стоило ей заговорить об этом, как Густав неизменно заявлял, что в таком случае
Эрлинг приобрел его на краденые деньги и рано или поздно это выяснится. Эльфрида была разочарована. Ей так хотелось, чтобы она могла сказать соседкам: У моего деверя собственная вилла!
Как уже часто бывало, у Эрлинга возникло чувство, будто он читает сразу две книги, раскрытые перед ним на столе. Эльфрида ему даже нравилась. Довольная жизнью, она хлопотала в своем мирке, уважая и чтя своего замечательного мужа. Мой муж, слава Богу, не пьет. Он никогда не уходит из дома по вечерам. Мне не на что жаловаться. Конечно, было бы хорошо, если б наш сын не уехал в Америку. Я постоянно думаю о нем. Особенно перед Рождеством. Господи, как Густав тогда рассердился! Ты думаешь, я дам тебе денег на билет? закричал он. Но Фредрик сказал, что у него и в мыслях не было просить об этом. О Господи! Теперь-то Фредрик уже женат и у него все американское, у него постоянная работа и четверо детей, его жена тоже работает, у них есть и дом, и сад с грушевыми деревьями. Фредрик водит грузовик, но Густав говорит, что грузовик наверняка принадлежит не ему и лучше бы у него не было того, за что он еще не расплатился. Люди, которые важничают и покупают грузовики в рассрочку, плохо кончают, говорит он. Но я надеюсь, что Господь не оставит нашего Фредрика.
Когда Густава не было рядом, речь Эльфриды становилась набожной, Эрлинга она не стеснялась, хотя во многих отношениях считала его человеком подозрительным. Однако Эрлинга мало заботили подозрения Густава и Эльфриды. Они оба были начисто лишены воображения. Их возмущало, что он позволяет себе дурно говорить об уважаемых людях. Плохо и то, что у него были внебрачные дети, Густав и Эльфрида были готовы относиться к этому как к досадному недоразумению, но ведь он говорил о своих внебрачных детях так, словно это были самые обычные дети! Он их совсем не стеснялся! Тем самым он лишал своих братьев, сестер, зятьев и невесток их самой дорогой тайны. Кому может доставить удовольствие шептаться о том, о чем он сам говорит во всеуслышание? А его развод? Это было еще почище. Густав и Эльфрида делали вид, будто ничего не знают об этом, и, пряча глаза, просили передавать привет жене. О его жизни они не знали ничего и были бы не способны понять ее; если бы кто-нибудь посвятил их в некоторые подробности, они не смогли бы принять это всерьез. Настолько простодушны они все-таки не были.
«Вековое ярмо нам на плечи легло…»
Эрлинг осмотрел хорошо знакомую гостиную брата и вдруг понял, что скажет Эльфрида Густаву, когда он уйдет: Ты заметил, как он смотрел на нашу мебель?… Ее настороженный, внимательный взгляд нервно перебегал с Эрлинга на очередной предмет, привлекший его внимание. Может, в гостиной все-таки что-нибудь не в порядке? Недостаточно красиво? Наверное, у его знакомых лучше? Неужели она проглядела и на абажуре осталась пыль? Эрлинг скорее чувствовал, чем видел, как дрожащая рука Эльфриды передвинула тарелочку так, чтобы прикрыть ею почти незаметное пятнышко, без ее помощи он ни за что бы его не заметил.
Ему было жаль Эльфриду, и он с болью сознавал, что его от нее и от Густава отделяет расстояние во много поколений и в десятки тысяч миль. Если бы он вдруг погладил Эльфриду по руке, это бы окончательно привело ее в смятение, а Густава вышибло бы из равновесия так, что предсказать последствия было трудно. Часто говорят, что между тем-то и тем-то лежит пропасть, обычно это пустые слова, но в ту минуту Эрлинг увидел бездонную пропасть, отделявшую его от Густава и Эльфриды, бессмысленно было даже пытаться перекинуть через нее мост. Эта пропасть навечно разделила два мира. Эрлинг с грустью понял, сколь глупы были его попытки в молодости добиться дружбы и доверия таких людей, как Густав и Эльфрида, то есть вообще всех его близких — родителей, братьев, сестер, знакомых — всех, кого он знал до того, как ему стукнуло двадцать. Он очень старался стать одним из них, но бездна между ними существовала с его рождения. Эрлинг подумал о годах, потраченных на борьбу, которая с самого начала была обречена на неудачу. А ему всегда так хотелось чувствовать себя дома там, где он жил и рос!