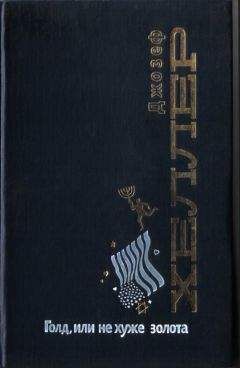— Знаю, — сказал Голд.
— Никто обо мне так не заботился. Он всегда позволял мне быть, кем я хотел.
— Я знаю, — сказал Голд. — Сид был замечательный человек.
— Ты не знаешь, — сказал старик. — Он был не то, что ты.
— Па, ну что ты придираешься ко мне? — Его отец с отвращением оттолкнул протянутую Голдом руку. — Неужели это все из-за того, что я должен был носить очки и получал хорошие отметки в школе?
— Конечно, — сказал Джулиус Голд. — Именно.
— И ты меня никогда не любил?
— Конечно… когда ты был маленький, я тебя любил. Но это все. — Затем наступило скорбное молчание и распухшие глаза старика еще больше наполнились слезами. — Мне не нравится, когда она говорит мне, что Гусси не должна ходить туда, не должна ходить сюда. — Он вдруг поднял на Голда глаза, и в них засветилось какое-то странное любопытство. — У тебя есть дети?
Голд нагнулся к отцу, чтобы их глаза оказались на одном уровне, и пристально посмотрел ему в лицо. Холодок пробежал у него по жилам. — Конечно же, па. Трое. Ты что, не помнишь? Ведь Дина — твоя любимая внучка. Моя единственная дочь. Ты что, не помнишь?
Игнорируя этот вопрос, старик начал говорить, словно Голд не произнес ни слова. — У тебя есть дети, не позволяй им отправлять тебя во Флориду. Старики не должны быть только со стариками. Старики должны быть с молодыми, но они больше не хотят нас. Моя жена болела в моем доме, и я ее никуда не выставлял, пока она не попала в больницу и не умерла там. Моя мать умерла в доме моего брата Меира, и я был с ней все время и говорил с ней, даже когда она уже не слышала. Ты можешь спросить у Сида, но Сида больше нет, и все, фартиг. Там тепло, вот пусть старики и едут туда.
— Па. — Голд помедлил в наступившем неуверенном молчании; он оказался в опасной близости к очень хрупкой границе между амнезией и старческим слабоумием, и это более чем вернуло его к реальности. Ты и есть старый.
— Когда ты был маленький, — сказал его отец, не дрогнув, и голосом ровным и почти бесстрастным, — я помню, ни разу тебя не ударил. Этого и не нужно было. Мне нужно было только посмотреть на тебя и прикрикнуть, и ты сразу же боялся. Я тебя умел заставить вести как полагается. Один раз Сид на все лето убежал из дома только потому, что я посмотрел на него и прикрикнул. Теперь ребенок я. Ты говоришь со мной, будто я не понимаю. Не говори со мной, будто я младенец. Если я и капризничаю, то потому, что не всегда могу уснуть, когда я устаю, и у меня болят ноги. А не потому, что я свихнулся. А теперь она мне через внука говорит, что она не хочет, чтобы я курил сигары в ее доме. Это не ее дом, а Сида. Он мой сын, а не ее. Я знаю, что я говорю.
— Не всегда, па, — с нежностью и осторожно сказал Голд, понимая, что говорит с человеком не совсем в здравом уме.
— Значит, тогда нужно понянчиться со мной немного, — сказал старик почти без нажима, капризным и жалобным тоном. — Не сейчас, когда я говорю разумно. Ответь-ка мне кое-что. Вот тебе загадка. Скажи-ка, почему отец может заботиться о семи детях, а семь детей, теперь шесть, не могут позаботиться об одном отце?
Голд, чье терпение истощалось, не стал спорить, хотя и мог возразить, указав, что мудрая еврейская пословица обычно имеет в виду мать, а не отца, что кокетничающий, рисующийся старый хер никогда и близко не мог обеспечить семерых своих детей, а вот дети как раз его и обеспечивали.
— Па, мы будем заботиться о тебе, — сказал он, сдержанно и тихо. — Об этом мы с тобой и говорим.
— Не заставляйте меня уезжать во Флориду.
— Пока ты сам не захочешь. Обещаю тебе. Только теперь Гусси хочет ехать.
— Пусть она себе хочет.
— Ты можешь остаться в Нью-Йорке.
— Я хочу быть с моими друзьями, — жалобным голосом сказал он.
— Ты же не можешь быть в двух местах одновременно. Когда тебе будет не хватать твоих друзей, можешь слетать во Флориду.
— А где мне жить здесь?
— Где хочешь.
— Я хочу жить с моими детьми.
— Ты можешь жить с твоими детьми, — от всей души заверил его Голд. — Ты даже можешь переехать к нам, если хочешь.
— Не может он переехать к нам, — решительно сказала Белл, когда они вышли из комнаты. — С нами он не может жить.
— Я знаю, что не может, — проворчал Голд. — Я рад убедиться, что ты не идеальна.
— А что ты будешь делать, если он скажет, что хочет?
— Я ему скажу, что это невозможно, — ответил Голд. — Пора ему дать понять: он должен делать то, что хотим мы. — Голд устало сел. — Вот упрямец. — Задумавшись, Голд с невыразимой усталостью глубоко вздохнул и даже побледнел, потому что поверить в это было просто невозможно. — И к тому же он абсолютно никчемен. Когда-то, сто лет назад купил мне игрушку. А теперь я за это должен помогать содержать его.
— Против этого я не возражаю, — сказала Белл. — Ты всегда хорошо относился к моей матери.
А потом раздался первый из звонков Ральфа. Ральф начал с лучезарных изъявлений соболезнований от Альмы, Эми, Зайки, Пылинки, Кристи и президента. Белл не сводила с Голда глаз, а он, послушав еще минуту, сказал, что пост в правительстве сейчас его не интересует и, вероятно, впредь не будет интересовать. Ральф ответил ему с какой-то непробиваемой отеческой снисходительностью, которая просто ошеломила Голда.
— Ты должен, Брюс. Ты не можешь сказать «нет» президенту.
— Это почему?
— Потому что так никто не делает. Когда президент просит, ты должен говорить «да».
— А кто говорит «да»?
— Все, Брюс. Ты не можешь ответить «нет», когда тебя просит твой президент.
— Ральф, я себя сегодня ужасно чувствую. У меня умер брат, а отец — совсем старик.
— Понимаю, — с участием сказал Ральф. — Я тебе перезвоню, когда ты придешь в себя.
Посмотрев на Белл, Голд весь сжался. — Я себя не очень уютно чувствую, общаясь с богачами, — объяснил он. — Так у меня всегда было.
Белл уклончиво кивнула головой.
— Нам нужно что-то делать с Гарриет. Целую неделю мы здесь не продержимся.
Среди прочих визитеров пришел и Мерш Уэйнрок; на сей раз он обошелся без шуток; его зубы были желты от никотина, а кожа лица и на кончиках пальцев была под стать желтым зубам. Голд понял, что будут дальние родственники и старые знакомые их семьи, о существовании которых он не вспоминал десятилетиями, и, чтобы избежать встречи с подавляющим большинством из них, готов был сделать крюк миль эдак в сто.
Вопрос о том, чья потеря горше и чьи претензии на скорбь основательнее — его отца или Гарриет, — был довольно спорным, но все тактические преимущества благодаря вооруженности принадлежали вдове. Ее параноидальная подозрительность и мстительность оказались заразными и породили видимую атмосферу односторонней враждебности, которую никто — ни она, ни ее дети, мать и сестра — и не пытался скрыть.
— Помоги-ка мне встать, — сказал ему, наконец, Джулиус Голд. — Я хочу домой. Она не хочет нас здесь, а я не хочу оставаться здесь. — Уцепившись за руку Голда, он вышел, не простившись ни с кем из семьи его умершего сына. — Я не хотел хоронить своего ребенка, — сокрушенно пробормотал он, когда они шли по тротуару к машине. — Даже тебя.
После секундного замешательства Голд позволил этим словам осесть рядом с другими малоприятными воспоминаниями недавнего прошлого, которые не давали ему покоя, погружая в депрессию и бешенство: Ральф отказался его спрятать, Коновер над ним издевался, техасский экс-губернатор им владел. Кто научит его защищаться? Когда час спустя ему позвонил Ральф, Голд решил, что пост в правительстве ему не нужен.
Его сезон в Белом Доме закончился.
К УТРУ третьего дня Голд уговорил своих родственников перенести досиживание шивы по Сиду в дом Эстер; Розе и Иде поручались еда и напитки, а соседи по дому должны были делегировать столько взрослых мужчин, сколько требовалось для миньяна[261] из десяти молящихся по утрам и на заходе солнца. Мужчины собирались после завтрака перед уходом на работу и возвращались рано вечером до наступления темноты. Голд договорился с секретарем факультета о возобновлении своих регулярных лекций на следующей неделе. Когда он в этот третий день собирался из дома Эстер в город, зазвонил звонок домофона — кто-то хотел поговорить с ним. Голд в жизни бы не догадался, кто это.
— Это Гринспэн, доктор Голд, — раздался по интеркому скрипучий голос. — Лайонел.
— Бульдог, что вам надо, — нетерпеливо спросил Голд. — У нас больше нет общих дел.
— Белый Дом хочет, чтобы вы изменили свое решение.
— Я им не собираюсь звонить.
— Они сами вам позвонят. Скажите мне номер телефона вашей сестры. Вы не впустите меня в дом?
— Нет, — сказал Голд. — Ее номер есть в телефонной книжке, черт побери. И, пожалуйста, оставьте меня в покое.
— Под какой фамилией? — умоляюще спросил Гринспэн.