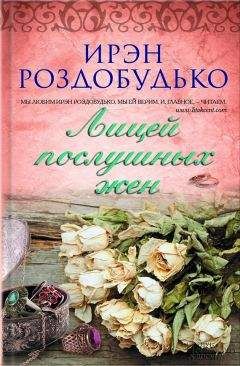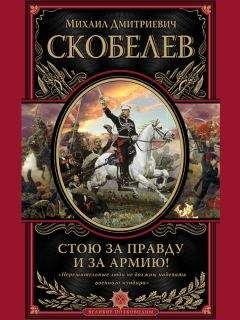Она пошла следом.
Она получила знак. И последовала за ним как нитка за иголкой.
Мужчина в зеленой шляпе шел не оборачиваясь до самого угла, где была припаркована старая «Таврия-Нова» такого же цвета, как и его шляпа. Он открыл дверцу и сел за руль.
Она поняла, что нитка оборвется, как только он заведет мотор. Но не двигалась с места, так как не знала, что делать дальше. Кошка знала бы это наверняка – просто заскочила бы в салон в удобный момент и забилась под сиденье.
Машина чихнула, заворчала и… заглохла.
Мужчина в зеленой шляпе выпрыгнул из нее, растерянно оглядываясь.
Заметил ее.
Умерил недовольное сопение и обратился к ней:
– Не будет ли барышня так любезна, чтобы чуть-чуть подтолкнуть это ландо?
О, как задрожала она каждой клеточкой своего затекшего после ночных хождений тела.
Как бросилась к капоту и уперлась в него руками.
Сдвинула, как Землю.
Мужчина попробовал завести мотор.
Он завелся.
Мужчина на секунду выглянул из окошка:
– Спасибо, красавица!
И она поняла, что больше нельзя молчать.
Первая фраза, которую она произнесла на «большой земле», была такой:
– Возьмите меня с собой.
Он не очень удивился, только спросил, куда она собралась путешествовать автостопом, потому что его путь – далекий.
Она не знала, что такое «автостопом», но вежливо объяснила, что у нее есть одна золотая сережка, чтобы заплатить за дорогу.
Он спросил, где ее дом. И не будут ли ее искать.
Она объяснила, что у нее нет дома. И некому искать ее.
Он спросил, правда ли это.
И она ответила так, что он сразу поверил ей.
И взял с собой…
Что-ха-рак-тер-но!»
Кода![6]
…Полина отстранила от губ мундштук.
Мерцающие яркие тени осени догорали по углам мастерской.
Вечер за узким окошком приобретал другие цвета – багряный, коричневый, терракотовый. Солнце еще цеплялось за край обрыва, и его рваные лоскуты оставались в красных кронах деревьев.
Так же было и в день смерти пана Теодора – ровно семь лет назад.
Но за те три года он многое успел – научил ее всему, что знал сам, а главное – научил играть на своем стареньком альтовом. Теперь она не представляла, как бы сложилась ее жизнь, если бы не эта встреча.
Теперь она знала, что так должно было быть.
Должно было быть еще с того момента, когда сквозь запыленное стекло на крыше она впервые увидела и услышала именно ту музыку, которая до поры до времени дремала внутри нее свернувшейся золотой змейкой.
Сначала пан Теодор сопротивлялся, говорил, что ни игра на саксе, ни изготовление для него принадлежностей – не женское дело. Но она была настойчива.
Даже однажды схватилась за топор, угрожая повредить свои тонкие пальцы, как это когда-то сделал он.
И мастер согласился, назвав ее сумасшедшей.
Разобрал перед ней альт, как автомат Калашникова, и начал объяснять все тонкости его устройства. И все премудрости изготовления тростей, лигатур и мундштуков.
Уже через год он с гордостью удовлетворенно похлопывал ее по худенькому плечу, называя ее своей лучшей находкой. А вскоре разрешил ставить на изделиях свои инициалы: «П. Т.», которые, собственно, отличались от его автографа только никому не заметной перестановкой букв. И в этом она тоже видела знак судьбы.
Теперь она просто продолжала его дело, время от времени выполняя заказы музыкантов, разносивших слухи о совершенстве тростей мастера «П. Т.», и… тщательно скрывая тайну его ухода в небытие.
Иногда, заказав набор тростей и мундштуков на несколько лет вперед по телефону или по почте, как это было и при жизни пана Теодора, музыканты приезжали, чтобы получить заказ. И видели перед собой «дочь» мастера, которая довольно искусно вела переговоры, оберегая своего нелюдимого «папу» от коммерческих дел.
Иногда кто-то из них приезжал в дом мастера по нескольку раз. И целью таких наездов уже были не принадлежности для музыкального инструмента, а девушка, сама напоминавшая тростинку, которую следовало бы завернуть в замшевый лоскуток и положить в карман.
Но каждый раз все они наталкивались на такой металлический стержень внутри этой тростинки, что шли на все четыре стороны, удивляясь тому, с какой легкостью она пропускает мимо ушей самые соблазнительные предложения. Ведь среди заказчиков были люди небедные, известные, состоятельные, иногда – иностранцы…
Поэтому все чаще она отдавала предпочтение виртуальному общению, но всегда выполняла заказ безупречно и – в срок.
В городке ее стали называть «железной леди», перешептывались о ее богатстве, основанном на таком странном бизнесе. Удивлялись тому, что она, имея такой достаток, работает в музыкальной школе с совершенно безнадежными в этой глуши поклонниками джазовой музыки. Поговаривали, что пан Теодор переписал на нее все свое имущество – и это неспроста, – видимо, она оказывала старику «особые услуги». А то, что она до сих пор не вышла замуж, было свидетельством тех самых услуг и обязательств.
Но если бы кто-то спросил у нее об этом прямо, она прямо и ответила бы, что у нее есть большой страх потерять себя – ту свою маленькую, но крепкую целостность, которую нашла в себе когда-то давно – в кухне у своего случайного спасителя.
Боялась, что кто-нибудь, кто обещает ей большие золотые горы, не даст делать то, что хочет ее душа. Потому что получила огромный опыт покорности, который, как она думала, не выветрился из нее до сих пор…
Полина снова приложила мундштук к губам.
Она редко играла эту мелодию, ведь это была не ее мелодия. Но она запомнила ее с давних времен и теперь добавляла к ней все большего колорита, большей яркости, изменяя тональность и акценты.
Но сущность оставалась той же: он говорил с ней все эти десять лет, и каждый раз она находила в таком разговоре новые и новые нюансы. Теперь она знала, что его настоящее имя, которого он стеснялся, – Ланцелот. Знала, так как писала это имя на посылках с принадлежностями к инструменту, которые регулярно посылала ему, унаследовав дело пана Теодора Павлишина.
Она никогда не забывала его. Но и никогда не пыталась найти. Ведь после того, что узнала из прессы о заведении, в котором воспитывалась, раз и навсегда считала себя ущербной, зараженной тем странным вирусом, который, как она считала, мог сделать ее зависимой.
А этого она хотела меньше всего – искусственности, неестественности, внешнего вмешательства в свои мысли, в то, что было в ней целостного и настоящего.
Время от времени, когда она слушала его по радио или выискивала выступления в «ютубе», ей ужасно хотелось написать ему письмо.
Обычное письмо, которое пишут благодарные ученики своим бывшим учителям…
Дорогой Ланцелот! Вы, наверное, не помните меня, но я хочу, чтобы Вы знали: я стала другой благодаря Вам. Я перечитала уйму книг, пересмотрела все фильмы и увидела все картины, о которых Вы рассказывали. Теперь я знаю, что мир невероятно большой. И что удивительно, он весь прошел сквозь меня – и тоже благодаря Вам, Вашей музыке.
Закончила бы так…
Не подумайте, что мне от Вас что-нибудь нужно! У меня есть все, что необходимо счастливому человеку. А я действительно счастлива. Без всяких внешних вмешательств!
А еще, может, решилась бы и добавила, что…
…Ваша музыка в последнее время беспокоит меня своим внутренним состоянием: она, как и всегда, вынимает душу, пускает ее путешествовать по мирам, очищает и превозносит – все, как должно быть, но… Но (не обижайтесь, – возможно, мне только так кажется) не возвращает ее на место! Когда Вы выходите на коду, кажется, что и сами не знаете, хочется ли Вам возвращаться…
Полина отвернулась к окну, где в вечернем свете поблескивал огоньками обрыв, вдохнула воздух и выдохнула его в золотое чрево своего альтового.
«…Отныне и навсегда ты никогда не будешь чувствовать холода, голода, разочарования и насмешек.
Ты найдешь свою амфору, свой серебряный щит и их место в изгибах пространства.
Корона найдет свою голову, посох – свою руку, глаза – свою цель, ягненок – свои ясли, краски – свое полотно, ступни – свою дорогу, раны – свой бинт… В небесном челне по лунному озеру во вспышках зарева поплывешь вечной осенью… В южном городке среди раскаленной черепицы будет ждать тебя ослик, нагруженный пряностями, и ты найдешь свой приют среди разноцветных полотенец, глиняных свистков, на страницах книг, в миске с розовой водой, под полотняным навесом прибрежных кафе, на дне фарфоровой чашки… В небе, в море и на суше… В камне, где в отпечаток археоптерикса можно залить воск, а можно – свинец… В животе золотой рыбы засветишься тысячной икринкой… Тонким смычком переплывешь круги одиночества на воде…»
Черт побери!
Я застыл и, чувствуя, как ослабли ноги после дальней дороги за рулем, опустился на бревно, выпиленное в форме скамейки, у стены мастерской.