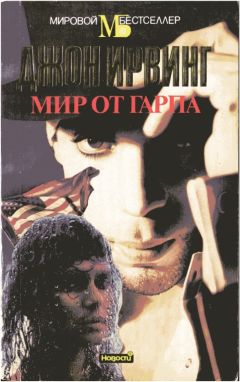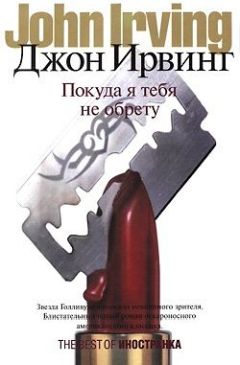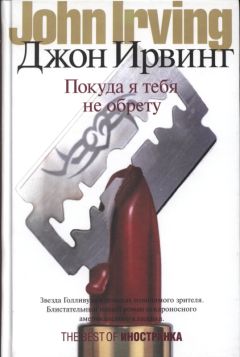Глянец ночного дождя — печальный финал трагедии. Неясный снимок, который мог быть взят из любой дешевой газетки. Сколько таких трагедий, сколько детских смертей.
Где угодно. Когда угодно. Но эта фотография напомнила Гарпу серое отчаяние, когда они смотрели на лежавшего в машине Уолта со сломанным позвоночником.
Суперобложка «Мира от Бензенхейвера», «мыльной оперы» для взрослых, кричала читателю, что он найдет под ней душераздирающую историю. Она требовала немедленного, пусть дешевого внимания. Она обещала — вы испытаете внезапную, сосущую сердце печаль; и Гарп знал: читатель не будет разочарован.
Если бы в эту минуту он прочел на суперобложке рекламу романа и выжимку из своей жизни, он, скорее всего, сел бы в европейском аэропорту в первый самолет, летящий обратно, и явился пред ясныя очи своего издателя. Но пока суперобложка путешествует из Америки в Европу, он успеет привыкнуть к такого сорта рекламе, на что Джон Вулф и рассчитывал. Притупится и острота восприятия чудовищной фотографии.
Хелен же никогда не привыкнет к ней и никогда не простит ее Вулфу. Не простит она и второй фотографии на четвертой странице суперобложки. Снимок изображал Гарпа с Уолтом и Данкеном и был сделан за несколько лет до трагедии. Снимала Хелен, и Гарп послал фотокарточку Вулфу вместо рождественской открытки.
Гарп сидел в одних плавках на волнорезе и олицетворял собой физическую силу. Таким он и был. Сзади стоял загорелый Данкен, положив худенькую руку на отцовское плечо. Тоже в плавках и белой матросской шапочке, беспечно торчащей на самой макушке. Мальчуган широко улыбался в объектив, не сводя с матери удивительно красивых глаз. Уолт сидел у отца на коленях. Он только что вышел из воды и лоснился, точно морской котик. Гарп пытался завернуть его в теплое полотенце, но малыш не давался, выскальзывая из отцовских рук. Он был бесконечно счастлив, и его круглая клоунская рожица сияла в ожидании «птички». Когда Гарп увидел фотографию, он явственно почувствовал, как мокрое, холодное тельце Уолта прижимается к его теплой груди.
Внизу под фотографией унизительно выбивали слезу следующие слова: «Т. С. Гарп с детьми (до трагедии)».
Издатель сплутовал, недвусмысленно намекнув читателю, что он найдет на страницах романа описание этой трагедии. В романе, разумеется, ни слова об этом не говорилось, хотя, справедливости ради, надо отметить, он сплошь состоял из трагедий. Узнать о семейной трагедии — подпись под фотографией на четвертой странице, конечно, интриговала — можно было только из той чепухи, которую Вулф сочинил и поместил на клапанах обложки. Как бы то ни было, фотография отца с обреченными детьми служила хорошей приманкой.
Люди нарасхват покупали роман, написанный «несчастным сыном знаменитой Дженни Филдз».
Сидя в самолете, летящем в Европу, Гарп смотрел на фотографию, и воображение его разыгралось. Хоть земля была далеко внизу, он воочию видел толпы людей, которые гоняются за его книгой. Ему были отвратительны эти люди, попавшиеся на такую дешевую удочку; он чувствовал отвращение и к себе: какой стыд — писать книги, удовлетворяющие вкусам стада бегемотов.
Т. С. Гарпа страшило любое стадо, а особенно людское. Сидя в самолете, он как никогда желал уединения и покоя для себя и своей семьи.
— А что мы будем делать с такой кучей денег? — вдруг спросил Данкен.
— С кучей денег? — переспросил Гарп.
— Когда ты будешь богатый и знаменитый. Что мы тогда станем делать?
— Веселиться и отдыхать, — ответил Гарп. Но красивый, единственный глаз мальчика смотрел недоверчиво.
— Полет будет проходить на высоте одиннадцать тысяч метров, — донесся из динамика уверенный голос первого пилота.
— Ого! — восхищенно воскликнул Данкен.
Гарп протянул через проход руку жене, но мимо них, неуверенно ступая, прошествовал к туалету какой-то толстяк. И Хелен с Гарпом только обменялись взглядами, подбадривающими, как рукопожатие.
Гарпу вдруг вспомнилась мать в белой форменной одежде, поднятая великаншей Робертой. Гарп не знал, что бы это могло значить, но вид матери, парящей над толпой, подействовал на него, как фотография с суперобложки. Отгоняя дурные предчувствия, Гарп принялся болтать с сыном, о чем придет в голову.
Данкен вспомнил про Уолта, про то, как он боялся «Прибоя». История эта была семейным преданием. Сколько Данкен мог помнить, Гарпы каждое лето гостили у бабушки на берегу бухты Догз-хед. Там на многие мили тянутся песчаные пляжи и часто свирепствует грозный океанский прибой.
— Берегись прибоя! — сказал Данкен брату, когда тот, став постарше, отважился приблизиться к воде. Сколько раз самому Данкену то же твердили родители. Услыхав о прибое, Уолт почтительно отступил.
Три лета подряд они предостерегали малыша. Данкен и теперь помнил каждую фразу.
«Сегодня ужасный прибой!»
«Сегодня очень сильный прибой!»
«Сегодня свирепый прибой!»
«Свирепый» было частым словечком в Догз-хеде, свирепым могло быть все — ветер, болезнь, ссора.
За три года малыш хорошо усвоил: прибоя нужно бояться; свирепый прибой унесет в океан; свирепый прибой утащит под воду, навсегда разлучит с папой, мамой и Данкеном.
Это случилось в четвертое лето жизни Уолта на берегу океана. Данкен помнил, как однажды он, Гарп и Хелен застали такую сценку: Уолт, стоя по щиколотку в пенистой от прибоя воде, внимательно всматривался в набегающие волны. Он стоял долго, не двигаясь и не отрывая глаз от воды. Наконец Гарп и Хелен решили подойти к нему и узнать, что он делает.
— Уолт, что ты там высматриваешь? — спросила Хелен.
— Что ты там нашел интересного, дурачок? — сказал Данкен.
— Хочу увидеть «Прибоя».
— Кого, кого? — спросил Гарп.
— «Прибоя», — сказал Уолт. — Хочу увидеть его. Он очень большой? Похож на жабу?
От удивления у всех троих раскрылись рты. Так значит, все эти годы малыш боялся огромного, страшного «Прибоя» — неведомого чудовища, которое пряталось среди прибрежных камней и было готово в любую минуту схватить Уолта и утащить в черную океанскую бездну.
Гарп стал фантазировать вместе с сынишкой. Поднимается ли чудовище на поверхность? Быстро ли оно плавает? А может, эта скользкая, обрюзгшая тварь вечно сидит на холодном дне к хватает зевак за ноги длинным, липучим языком? Какой он — этот свирепый «Прибой»?
Для Гарпа и Хелен «Прибой» стал кодовым названием тревоги. Даже потом, когда для Уолта «Прибой» превратился в пенистую кромку волн (прибой — это не зверь, а волны, которые бьются о песок, дурья голова, объяснял ему Гарп), Хелен с Гарпом, почуяв опасность, стали называть ее словечком Уолта. Будь то скопление машин или скользкая дорога, кто-нибудь из них обязательно говорил: «Опять этот свирепый «Прибой».
— А помнишь, — спросил в самолете Данкен, — Уолт как-то спросил про него — зеленый он или коричневый?
Отец и сын улыбались, а Гарп подумал: «Нет, сынок, «Прибой» не зеленый и не коричневый. «Прибой» — это я; «Прибой» — это Хелен; у него цвет дождя, и размером он с легковой автомобиль».
В Вене Гарп все время чувствовал, свирепый «Прибой» где-то совсем рядом.
Хелен была спокойна, а у Данкена, как и полагается одиннадцатилетнему подростку, настроение менялось десять раз на день. Приезд в Вену стал для Гарпа как бы возвращением в детство, в «Академию Стиринга». Дома, улицы и даже картины в музеях были словно его старые учителя, правда, постаревшие с годами. Он с трудом узнавал их, а они и вовсе его не помнили. Хелен и Данкен часами бродили по городу. Гарп довольствовался прогулками с малышкой Дженни. Он возил ее той долгой теплой осенью в коляске, столь же причудливой, как сам город; приветливо улыбался разговорчивым старушкам, которые заглядывали в коляску и, увидев его дочурку, одобрительно кивали. Жители Вены казались Гарпу сытыми и благополучными. Советская оккупация, развалины, напоминавшие о войне, да и сама война, остались в далеком прошлом. В тот год, когда Гарп жил здесь с матерью, Вена как бы умирала, и дни ее были сочтены; теперь же на месте старого города родилось что-то совсем новое — заурядное и безликое.
Гарпу нравилось водить Хелен с Данкеном по городу, где страницы его собственной жизни переплетались с хрестоматийной историей Вены: «Вот здесь выступал Гитлер с первым своим обращением к венцам. На этот рынок я когда-то ходил за покупками по субботам. А вот это — Четвертый район, бывшая советская оккупационная зона. Здесь находится знаменитая Карлскирхе и Верхний и Нижний Бельведеры. А между Принц-Ойгенштрассе, слева от вас, и Аргентинерштрассе есть улочка, где мама и я…»
Они сняли несколько комнат в небольшом уютном пансионе. Сначала им хотелось, чтобы Данкен ходил в английскую школу. Но дорога туда на машине или трамвае занимала много времени, а они не собирались долго оставаться в Вене. Впереди уже смутно маячило Рождество. И как-то не мыслилось праздновать его в другом месте, а не на берегу бухты Догз-хед вместе с Дженни, Робертой и Эрни Холмом.