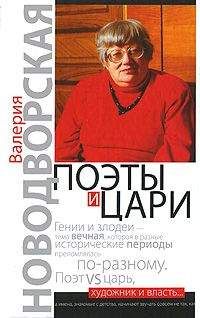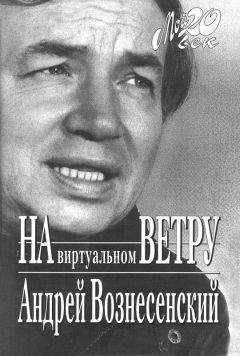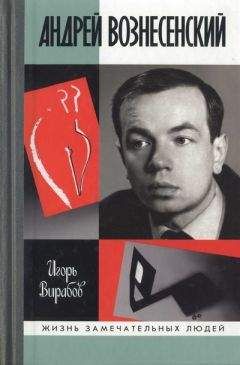Да, конечно, он основал Царскосельский лицей, но окончившие его обнаруживали, что им запрещено учиться в зарубежных университетах, изучать политические науки, а в университетах надо вести благочестивую жизнь и хором петь молитвы.
Народу тоже стало веселее жить: аракчеевские поселения предполагали службу с сельскохозяйственным уклоном, недаром наша армия до сих пор убирает картошку и разводит свиней. (Троцкий, кстати, тоже что-то подобное планировал, в смысле военных поселений.)
Александр пытался доказать, что кесарь может сотрудничать с Галилеянином, но мало кто из русских царей после Елизаветы был дальше от Бога, чем он. Видно, Иисус был прав: кесарю надо отдавать кесарево, а Божье – Богу. И не путать.
Пушкин, умница и насмешник, был строже к Александру, чем к Николаю (от Николая он ничего не ожидал). В ссылку поэт угодил, кстати, при Александре. Очень мелкий жест со стороны императора. Вот нелицеприятная характеристика монарха, выданная поэтом и заверенная историей: «Ура! В Россию скачет кочующий деспт»; «Вот бука, бука – русский царь»; «И людям я права людей по царской милости моей отдам из доброй воли»; «Узнай, народ российский, что знает целый мир: и прусский, и австрийский я сшил себе мундир»; «Меня газетчик прославлял, я пил, и ел, и обещал, и славой не замучен».
А что до российской образованной дворянской молодежи (другая еще не мыслила категориями спасения Отечества, да и такое образование не могла получить), она просто пережила шок. Царь поступил с ней, как с комнатной собачкой: привязал мясо (то есть вольность) на веревочку, дал проглотить и вытащил обратно. Последствия этого трюка предстояло расхлебывать Николаю I во все его царствование и России – на все времена.
По России ходили слухи (и ходят до сих пор), что Николай I отравился. Это нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Но резоны для такого финала у него были. Еще бы! Всю жизнь думать только о государстве, об Империи, о державности, о мощи, о страхе, который должно внушать; вешать ради этого, пресекать, запрещать, сделать страну гигантским полигоном с примесью вселенского бюрократического департамента, заморозить жизнь, искусство, прессу, эволюцию – и позорно проиграть Крымскую войну! Потерять Севастополь, сдать его (вот вам и город русской славы!); подписание Парижского мира было морально не легче подписания Брестского (не для большевиков, конечно, им на Россию в 1918 г. было плевать). Лишиться моря и флота… Да, он мог отравиться.
Империя оказалась в руках у скромного джентльмена 37 лет, у воспитанника Жуковского Александра II. Никто не понимал этого человека, никто ничего от него не ждал. Он не очень-то умел позировать для историков, Запада, образованных современников. Он не произносил пышных речей. Он не резал бород, не орал, не топал сапогами. Он был не мумией на троне, а человеком, способным на нестандартную любовь. Он влюбился в подданную, в Катеньку Долгорукую (будущую княгиню Юрьевскую), он обожал ее и детей, узаконил их, он тайно женился на Кате, когда умерла императрица, сдержав слово, данное много лет назад. С ним мало считались при дворах: как при своем, так и при иностранных.
Казалось, он не хватал звезд с неба. И именно он совершил ту самую революцию, о которой мечтает в России разумный либерал, западник, интеллектуал, интеллигент: революцию сверху. На сколько мог, от души, не скупясь, копируя европейские нормы везде, где это было возможно. На Россию словно пролился золотой дождь, над ней всходило северное сияние и опрокидывался рог изобилия. Александра никто не заставлял, никто не стимулировал, кроме Герцена и его «Колокола». Он мог бы прожить и так. Наверное, не устрой он революцию, он жил бы дольше и умер спокойно, а не так страшно, как пришлось ему умирать: в муках, в крови, с раздробленными ногами. Но он, похоже, тоже не мог жить в стране рабов, так же как те самые декабристы, которых он вернул из Сибири ко дню коронации. Это была самая настоящая политическая амнистия. А оттепель перешла в нормальную, прохладную северную весну. 14 декабря для Александра Николаевича наступило 19 февраля 1861 года. Он тоже вышел на площадь – в свой назначенный час. Заседали тайные комиссии, отмеривали, резали, кроили. Крестьяне, кроме воли, получили еще и приданое, не как это сделали в Австрии, где не дали ничего на дорогу. Выкуп за надел был невелик, к тому же сразу стала действовать система ссуд. Дворянам-землевладельцам тоже платила казна. Государство очень много соломки подостлало под глубокие социальные преобразования. Европа радовалась. А в России кто-нибудь сказал «спасибо»?
Помещики были пассивны, протестовать они не решались, а выкупные платежи от доброй казны доставили им большое удовольствие. Правда, они не вложили деньги в бизнес, а проели. Среди дворян-лендлордов было очень много Обломовых и мало Штольцев. Имения к середине XIX века оказались заложенными-перезаложенными. А навыки к предпринимательству почитались за низкое. Вишневые сады цвели по Руси сказочным белым цветом, не приносили прибыль, не доставались дачникам, а редкие Лопахины не находили понимания ни у восторженной и консервативной Раневской, ни у потенциальных народников Ани и Пети. Так что, проев деньги, дворяне если и не роптали, то пили и закусывали очень оппозиционно. А потом наполовину народник, наполовину помещик, гневный и ироничный Некрасов напишет про великую освободительную реформу, про ее влияние на жизнь крестьян и дворян, что она ударила «одним концом по барину, другим – по мужику».
Реакция крестьян вообще была неописуема. Они оказались хуже американского дяди Тома из романа Бичер-Стоу. Негры хотели одной воли и больше ничего. Ради этого они бежали на Север и в Канаду, ради этого сражались в армии северян в войне 1861–1865 годов. Им и голову не приходило требовать чужой плантаторской земли. А русские крестьяне волю ценили ни во что. А вот землю почему-то считали своей. И не только землю, но даже и усадьбу помещика. Были случаи, когда, узнав о Манифесте, крестьяне собирались на сход и приговаривали отдать любимому барину его усадьбу и сад в награду за доброту и справедливость – так велико было их ослепление. Возник миф о том, что царь-батюшка повелел отдать землю крестьянам (ну прямо как в Гренаде по Светлову; надо ли говорить, что «земля в Гренаде» так же не принадлежала крестьянам, как и земля в России; и хлопец с «испанской грустью» так же напрасно вмешался в это дело, как народники и народовольцы – в спасение народа от воли с предоставлением ему за это земли). Из чего опять-таки ничего не вышло, потому что если народники обещали черный передел, а народовольцы – «землю и волю», а эсеры даже заставили Ленина дать землю, то марксисты-большевики очень быстро отобрали и волю, и землю. Крестьяне, убедившись, что другого Манифеста нет и не будет, начали бунтовать. Бунтовать после освобождения – не до! Крестьяне совершенно не хотели платить даже ту мизерную сумму, которую платить приходилось; дворовые вздыхали о времени «при господах», потому что «всяк себя помнил», а «в обед и на ужин, и на завтрак были щи и каша, и огурцов и капусты есть можно было добровольно, сколько хочешь» (чеховские «Мужики»). Господский выгон и лес были предметом наибольших сожалений; и уж, конечно, воля стоила дешевле этих благ. Мечта о черном переделе сопровождалась черной неблагодарностью. Но хуже всего было то, что бунты заставили реформатора-царя их подавлять, а это не выглядело красиво, все равно как необходимый, но неэстетичный обстрел Белого дома в 1993 году. И Ельцин, и Александр II не имели другого выхода: подавить. Но их европейский статус от этого сильно пострадал, не говоря уж об имидже России. Однако северное сияние не гасло: народ получил местное самоуправление, о котором так мечтал Солженицын. Да, административные реформы Александра Освободителя сильно отличались от административных реформ наших дней; боюсь, что их автору потомки памятник не поставят. Если у нас ликвидируют выборность губернаторов и Совета Федерации, то Александр организовал земские, уездные и губернские собрания и управы. «Гласные», да и «гласность» – это тогда прозвучало впервые. Земства построили прекрасные больницы, которые казались крестьянам курортами (рассказ Чехова «Беглец»), и бесплатные школы. Эти школы давали достаточную подготовку для гимназии, а меценатов, жертвовавших на это деньги, на Руси тогда хватало. Александр же не предвидел, не мог предвидеть, что в земствах начнется дикая коррупция…
А рог изобилия продолжал работать: судебная реформа, университетская реформа… Вводится удобная европейская судебная иерархия, мировые судьи, выборность судей. И самое драгоценное: суд присяжных, состязательность сторон, система апелляции. Потом будет великий адвокат Плевако, и его речи перед присяжными составят книгу и эпоху. Это уже была Европа. Вернее, полуфабрикат Европы. Нужно было только время, чтобы стали впору эти европейские атрибуты. Но времени не было. В истории XIX века, написанной французскими историками под редакцией Лависса и Рамбо, историками строгими, но доброжелательными (как будто только сейчас из ПАСЕ), Великие реформы (о которых они тоже очень высокого мнения) начинаются на странице 65 6-го тома. А на странице 90 – уже «реакция». Правда, это была совсем не та реакция, что у Александра I или Николая. Александр Николаевич до конца пытался остаться человеком (насколько это можно было в разгар гражданской войны с собственной сменой, просвещенной молодежью, почти поголовно ушедшей сначала по Владимирке, потом – в террор, на виселицу). Он и умер с проектом Конституции в руках, успев отправить в типографию документы, которые обеспечили бы России Думу на 24 года раньше срока. Поистине подпись на этом указе была сделана его кровью, и если бы его противники не были так ослеплены, они должны были бы признать, что император храбр и что он рисковал не меньше их.