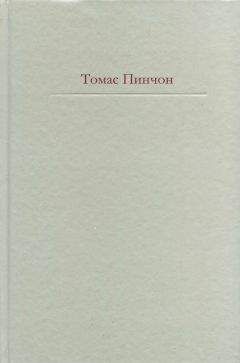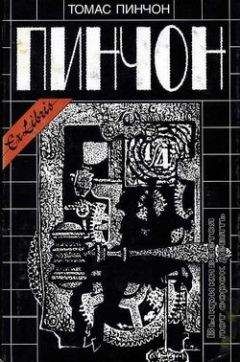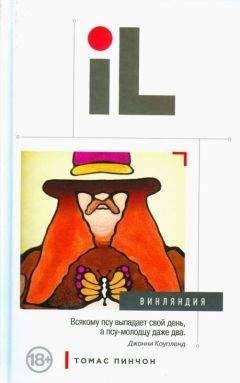Закат желто-красен, как баллон. Мягкий шар, коробясь, оседает на горизонт персиком на фарфоровом блюде.
— Чем дальше на юг, — продолжает Шнорп, — тем быстрее летит тень, на экваторе — тысяча миль в час. Фантастика. Преодолевает скорость звука где-то над Южной Францией, на широте Каркассонна примерно.
Ветер пихает их дальше, к северо-северо-востоку.
— Южная Франция, — вспоминает Ленитроп. — Ага. Вот и я там скорость звука преодолел…
В Зоне разгар лета: души покойно обретаются за обломками стен, крепко спят, свернувшись в воронках, трахаются, задрав серые рубашки, под сводами водоводов, грезят, дрейфуя средь полей. О еде грезят, о забвенье, о какой-то другой истории…
Безмолвия — убежища звука, так перед приливной волной убегает прибой: звук сливается по склонам акустического прохода, чтобы собраться еще где-то огромным шумовым выплеском. Коровы — здоровые нескладехи в черных и белых кляксах, запряженные нынче на пахоту, потому что германские лошади в Зоне едва ли не повымерли все, — с непроницаемыми мордами влекутся прямо на минные поля, засеянные еще зимой. По всем угодьям барабанят распрочертовские взрывы, повсюду ливнем проливаются рога, рульки и ромштексы, а по клеверищам разбросаны стихшие мятые колокольцы. Лошадям хватило бы ума не лезть на рожон — только немцы извели своих лошадей, промотали породу, загнали в полный абзац: в стальные стада, в ревматические топи, в беспопонные зимние стужи наших недавних Фронтов. Немногие, может, обрели приют у русских, которым до лошадей еще есть дело. Русских частенько слышно по вечерам. Костры их лучатся на много миль из-за буковых лесополос в мари северного лета — почти сухой, она до ножа заостряет лезвие пламени, в лад косматыми аккордами шпарит десяток баянов и гармошек с язычковым звоном, а в песнях полно жалобных ствий и зных, причем голоса союзниц звучат чище всех. Кони ржут и бродят в шелестящей траве. И мужчины и женщины добры, находчивы, нетерпимы — самая радостная публика из выживших в Зоне.
Туда-сюда по всей этой трепещущей плоти перемещается безумный падальщик Чичерин — металлический главным образом. Когда он говорит, стальные зубы его подмигивают. Под начесом у него — серебряная пластина. Золотая проволочная плетенка трехмерной татухой скрепляет мелкие обломки хрящей и косточек в правом коленном суставе, чья форма чувствуется всегда — печать ручной работы боли, его благороднейшая боевая награда: потому что невидима и только он ее ощущает. Четыре часа операции, в темноте. На Восточном фронте; ни сульфаниламидов там, ни анестезии. Есть чем гордиться.
Сюда он пришел маршем — хромая, чего, как и золота, у него не отнимешь, — из хлада, из низин, из тайны. Официально он подчиняется ЦАГИ — это Центральный аэрогидродинамический институт в Москве. Среди прочего в его задачи входит техническая разведка. Но подлинное задание у Чичерина в Зоне — личного свойства, маниакального характера и не отвечает, как неоднократно и разнообразно ему уже намекало со всей прозрачностью начальство, интересам народа. Чичерину сдается, что в буквальном смысле это недалеко от истины. Не уверен он только в интересах тех, кто его предупреждал. Быть может, у них свои резоны ликвидировать Энциана, что бы они там ни говорили. С Чичериным у них могут быть разногласия насчет сроков, мотивов. У Чичерина мотивы — не политические. Государствочко, что он строит в германском вакууме, основано на непреодолимой потребности, которую он уже и не старается понять, — на нужде уничтожить Шварцкоммандо и этого своего мифического сводного брата Энциана. Чичерин — из породы нигилистов: среди предков у него пруд пруди бомбистов и удачливых боевиков. Он даже отдаленно не родня тому Чичерину, что сговорился с Вальтером Ратенау в Рапалло. Тот, меньшевик, обратившийся в большевизм, смотрел далеко, и в эмиграции своей, и при возвращении верил в Государство, что их всех переживет, когда явится кто-нибудь и сядет на его место за столом, как сам он некогда подсидел Троцкого: сидельцы-то приходят и уходят, а сиденья остаются… ну и ладно. Такое бывает Государство. А вот с другой стороны, есть и чичеринская разновидность: смертное Государство, что не продержится дольше своих отдельных граждан. Он связан — любовью и страхом телесным — с теми студентами, что гибли под колесами карет, с глазами, по которым видны бессонные ночи, с объятьями, одержимо раскрытыми навстречу смерти от абсолютизма. Чичерин завидует их одиночеству, их желанию пройти до конца самостоятельно, вне пределов даже военной структуры, а часто и без ничьей поддержки или любви. Его собственная сеть фройляйн по всей Зоне — компромисс: он знает, что в ней чересчур уютно, даже если разведданные хороши. Однако ощутимые опасности любви, привязанности все равно для него слишком пустяковы, если учитывать то, что он должен сделать, — можно их и принять.
В самом начале сталинских дней Чичерин служил в «медвежьем углу» — в Семиречье. Летом арыки потели туманным ажуром по зеленому оазису. Зимой на подоконниках толпились липкие чайные стаканы, солдаты резались в преферанс, а наружу выходили только поссать либо прямо на улице из недавно модернизированной трехлинейки Мосина пострелять по удивленным волкам. То была страна пьяной ностальгии по городам, безмолвных киргизских скачек, нескончаемого труса земного… из-за землетрясений никто ничего не строил выше одного этажа, поэтому городок выглядел декорацией к вестерну: бурая грунтовка, а по бокам грандиозные двух-трехэтажные липовые фасады.
Чичерин приехал в эту дальнюю глушь даровать здешним племенам алфавит: среди них бытовала чистая речь, жест, касание, даже арабскую вязь не надо заменять. Чичерин работал подотчетно местному ликбезу — в Москве цепь ликбезов была известна под названием «красные юрты». С равнин съезжались молодые и старые киргизы, вонявшие конями, кумысом и травяным дымом, заходили внутрь и пялились на грифельные доски, покрытые меловыми закорюками. Чопорная латиница была в диковинку даже русским кадрам — высокой Галине в списанных армейских галифе и серых казацких сорочках… завитой горячими щипцами мягко лицей Любе, ее дорогой подруженьке… Вацлаву Чичерину, политическому сыскарю… все агенты — хотя никто под таким углом сего не рассматривал — представляли НТА (Новый Тюркский Алфавит) в до изумления чужой стране.
По утрам после общего завтрака Чичерин обычно брел в красную юрту на предмет поглядеть на эту училку Галину — она как-то по нраву, должно быть, женской сцепке-другой в его характере… в общем… часто выходил наружу, а в утренних небесах сплошные молнии — всполохи, ярые. Ужас. Земля содрогается почти неслышимо. Конец света, может, и настал, да только в Средней Азии это вполне себе обычный денек. Одно небохватное биенье за другим. Тучи, некоторые — очень четкие профилем, черные и рваные, — армадами плывут к азиатской Арктике над привольными десятинами трав, стеблями коровяка, что зыбятся прочь с глаз, серо-зеленые на ветру. Поразительный тут ветер. Но Чичерин стоит посередь улицы под открытым небом, подсмыкивает штаны, уголки лацканов колотятся об грудь, материт Армию, Партию, Историю — что ни загнало его сюда. Никогда не полюбит он ни это небо, ни равнину, ни народ этот, ни живность этого народа. И не оглянется, нет, даже на самых топких бивуаках души, даже в голом Ленинграде при встречах с неизбежностью смерти — своей и товарищей, — не припрячет никаких воспоминаний о Семиречье, чтобы в них укрываться. Ни донесшейся музыки, ни поездки летней… ни коня в степи в гаснущем свете дня…
Уж точно не Галину. Галину даже «воспоминанием» по уму не назовешь. Она уже скорей как закорюка алфавита, как порядок неполной разборки винтовки Мосина: да, это как помнить, что указательным пальцем левой руки следует придерживать курок в оттянутом положении, правой вынимая затвор, комплект взаимосвязанных предосторожностей, часть процесса, что протекает у трех изгнанников, Галины/Любы/Чичерина: там утрясаются перемены, своя маленькая диалектика, пока все не заканчивается, и за структурой больше ничего и не упомнить…
Глаза ее прячутся в железных тенях, глазницы потемнели, словно от очень метких ударов. Нижняя челюсть маленькая, квадратная, выпячена, когда говорит, больше видно нижние зубы… Улыбки не дождешься. У костей черепа резкие обводы, припаяны друг к другу крепко. В ее ауре меловая пыль, хозяйственное мыло, пот. И по углам — всегда — ее комнаты, у окна — отчаявшаяся Люба, хорошенькая соколица. Галина ее выучила — но летает из них только Люба, лишь ей ведом верстовой нырок, удар когтей, кровь, а поджарой хозяйке ее суждено оставаться внизу, в классе, запертой словами, сугробами, изморозными схемами белых слов.