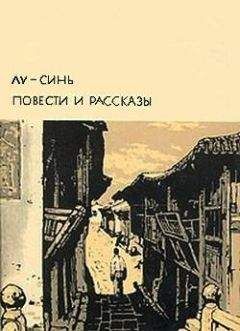Не успел Лао-цзы ответить, как четверо полицейских ринулись к нему, подхватили его под руки и посадили на вола. Досмотрщик ткнул вола щупом в зад, вол взмахнул хвостом и кинулся бежать. Все поехали к заставе.
По приезде на заставу для приема гостя тотчас же открыли большой зал, расположенный в сторожевой башне. Из бойницы виднелась песчаная равнина, которая полого уходила вниз до самого горизонта. Небо здесь было бирюзовое, воздух — чистый. Мощные укрепления заставы господствовали над холмами, которые виднелись за стеной. Чтобы закрыть дорогу, пролегавшую между крутыми склонами, казалось, хватило бы комка глины.
Все напились горячей воды, поели лепешек. Гуаньинь Си позволил Лао-цзы немного передохнуть, а затем предложил ему прочесть лекцию о своем учении. Примирившись с неизбежностью этого, Лао-цзы безропотно согласился. Поднялся шум — зал заполнили слушатели. Кроме восьми человек, которые привезли Лао-цзы на заставу, здесь оказалось еще четыре полицейских, два досмотрщика, пять шпиков, писарь, казначей и повар. Кое-кто захватил с собой кисти, ножи и дощечки,[408] чтобы записывать лекцию.
Наконец водворилась тишина. Лао-цзы, который неподвижно, словно статуя, сидел посередине зала, откашлялся. Под седыми усами зашевелились губы, и все, затаив дыхание, приготовились слушать. И тогда зазвучала мерная речь:
— Дао, которое можно назвать, не есть постоянное Дао; имя, которое называют, не есть постоянное имя. Безымянное — это начало неба и земли. Обладающее именем — это дверь во все таинства…[409]
Слушатели переглядывались, но никто не начинал записывать.
— Поэтому в постоянном, в небытии, стремятся познать скрытое, — продолжал Лао-цзы. — В постоянном, в бытии, стремятся познать явное. Оба они исходят из единого, но различны по имени. Называю их сокровенным. От сокровенного к еще более сокровенному, таковы врата ко всему скрытому…
Лица слушателей делались все более кислыми, некоторые не знали, куда девать руки и ноги. Один из досмотрщиков широко зевнул, а у задремавшего писаря вывалились из рук кисть и дощечка.
Лао-цзы, казалось, ничего не замечавший, кое-что все же разглядел и стал изъясняться более доступно. Но он шамкал беззубым ртом на шэньсийском диалекте с примесью хунаньского, «ли» у него не отличалось от «ни», и в довершение всего он тянул «э-э». Никто ничего не понимал. Лекция затягивалась, слушатели измучились, но приличия ради терпели. Приняв небрежную позу, каждый думал о своем. Когда же Лао-цзы произнес: «Путь совершенного человека — это деятельность, но не вражда»,[410] — и закрыл рот, никто не шелохнулся. Подождав немного, Лао-цзы добавил:
— Э-э… Я кончил.
Тут зал будто очнулся от крепкого сна. Ноги у всех от долгого сидения затекли, сразу никто не смог встать. Но в душе слушатели так удивлялись и радовались, словно получили помилование.
Лао-цзы проводили во флигель отдохнуть. После нескольких глотков горячей воды он сел, не шевелясь, будто статуя.
А на заставе в это время шли споры, и вскоре к Лао-цзы явилась делегация из четырех человек. Они выразили сожаление о том, что Лао-цзы говорил не на чистом «государственном языке»,[411] да еще слишком быстро. Никто не успел за ним записать. Остаться без текста лекции было бы весьма прискорбно, а потому они просят Лао-цзы набросать кое-что дополнительно.
— Мы не понимаем вашего диалекта, — заявил казначей.
— Написали бы сами, а? — вставил тут писарь. — Настрочите, так можно будет считать, что не напрасно шамкали. Верно?
Лао-цзы тоже плохо понимал делегатов, но когда перед ним положили кисть и дощечки, он сообразил, что ему предстоит написать свою лекцию. Примирившись с неизбежностью этого, Лао-цзы безропотно согласился. Но попросил разрешения начать завтра, так как сегодня уже очень поздно.
Удовлетворенные исходом переговоров, делегаты удалились.
Следующий день выдался пасмурный. Хотя на сердце у Лао-цзы было тяжело, его ждала работа. Ведь он спешил за рубеж, а не сдав рукописи, не мог уйти. Взглянув на груду дощечек, Лао-цзы почувствовал себя еще хуже, но нисколько не изменился в лице. Он тихо уселся и начал писать. Вспоминая вчерашнюю свою речь, он задумывался, потом заносил фразу на дощечку. Глаза у Лао-цзы стали слабы, но очки тогда еще не были изобретены, он сильно щурился и уставал. За полтора дня, отрываясь лишь для того, чтобы выпить чашку горячей воды и поесть лепешек, он написал всего пять тысяч крупных иероглифов.[412]
«Чтобы выпустили за пограничную заставу, пожалуй, хватит», — подумал Лао-цзы.
Он нанизал дощечки на веревку — образовались две связки. Затем, опираясь на посох, он пошел в канцелярию к начальнику, передал эти связки и заявил о своем желании немедленно уехать.
Гуаньинь Си несказанно обрадовался и очень благодарил за рукопись. Он крайне огорчился отъезду учителя и упрашивал его пожить на заставе. Но, видя, что Лао-цзы не удержать, начальник, изобразив на лице скорбь, согласился его отпустить и приказал полицейским оседлать вола. А сам собственноручно достал с полки свертки соли, кунжутных семечек, пятнадцать лепешек, сложил все в казенный мешок из белого холста и передал Лао-цзы на дорогу, объявив, что подобная честь оказана ему, как старому писателю, будь он молодым, лепешек получил бы только десять.
Лао-цзы долго благодарил начальника, потом принял мешок и вместе со всем штатом заставы спустился со сторожевой башни к воротам. Лао-цзы хотел пройтись пешком, ведя вола за уздечку, но Гуаньинь Си так настойчиво советовал ему ехать верхом, что Лао-цзы, отказываясь лишь из скромности, наконец уступил. Простившись, он повернул вола и медленно поехал по дороге между холмами.
Вскоре вол побежал резвее. Оставшиеся у ворот провожали путника глазами. На расстоянии двух-трех саженей еще виднелись седые волосы, желтый халат, черный вол и белый мешок. Но затем поднялась пыль, окутавшая всадника вместе с волом, и вскоре их нельзя было различить среди облака желтого песка.
Воротившиеся в сторожевую башню почувствовали себя так, будто сбросили тяжелую ношу. Они потягивались и причмокивали, словно обнаружили контрабанду. Несколько человек вошли за Гуаньинь Си в канцелярию.
— Это и есть рукопись? — Казначей приподнял связку дощечек, повертел в руках и сказал. — Иероглифы, однако, вырезаны чисто. Если снести на рынок, покупатель найдется.
К нему подошел писарь и на первой же дощечке прочил:
— «Дао, которое можно назвать, не есть постоянное Дао…» Ох, все та же старая песня! Так надоело, даже голова разболелась.
— Чтобы прошла головная боль, лучше всего вздремнуть, — посоветовал казначей, положив дощечки на место.
— Ха-ха-ха!.. Верно, неплохо бы подремать! По правде говоря, я пошел на лекцию, думая, что он расскажет нам о своих любовных историях. Знай я заранее, что он будет плести такой вздор, ни за что не стал бы терпеть эту муку добрых полдня…
— Если вы могли так ошибиться в человеке, пеняйте на себя! — улыбнулся Гуаньинь Си. — Откуда возьмутся у него любовные истории? Да у него никак не могло быть любви!
— Откуда вы это знаете? — удивился писарь.
— Вы же задремали, не удивительно, что прослушали, когда он сказал: «Тот, кто ничего не делает, — все совершает».[413] Вот уж поистине, у этой твари «разум выше небес, а судьба тоньше бумаги». Мечтает «все совершать», вот ему и остается «ничего не делать». Ведь стоит только полюбить, и нельзя будет любить всех. Как же ему полюбить, как на это осмелиться? А посмотрите на себя: стоит вам заметить какую-нибудь девушку, хоть красотку, хоть дурнушку, и глаза у вас заблестят, будто она уже ваша! Вот женитесь, тогда, пожалуй, остепенитесь, как и наш казначей.
За бойницей пронесся порыв ветра, стало прохладнее.
— Куда же в конце концов отправился этот старик? Зачем? — перебил писарь Гуаньинь Си.
— Сам-то сказал, что уезжает в зыбучие пески, — холодно заметил Гуаньинь Си. — Посмотрим, доберется ли. Ведь там нет ни соли, ни хлеба, воду и то трудно достать. Изголодается, вернется к нам сюда…
— Тогда мы снова заставим его заняться сочинительством, — обрадовался казначей, — только уж очень большой расход лепешек. Но мы заявим, что, по указанию свыше, теперь выдвигают молодых писателей. За две связки дощечек хватит с него и пяти лепешек.
— Вряд ли это пройдет. Еще станет ворчать да капризничать.
— На пустой желудок не покапризничаешь.
— Боюсь, что на такие вещи не найдешь читателя, — сказал писарь, махнув рукой, — не выручишь денег и за пять лепешек. Ведь если Лао-цзы действительно говорил правду, то нашему «голове» пришлось бы забросить все дела, лишь тогда он мог бы «все совершать», как важная персона…