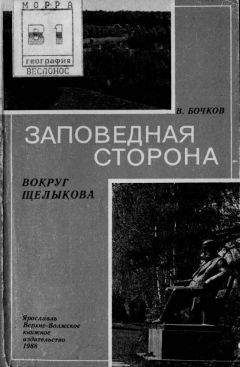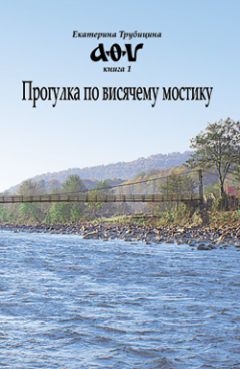К середине XVII века Годуновы извелись, и село пошло в раздел к родам Ляпуновых, Кутузовых и князей Лобановых-Ростовских. В XVIII в. на смену им появились Витовтовы и генерал-аншеф князь Петр Иванович Репнин. Знаменитый род Репниных долго владел Твердо-вом, и знатные князья, судя по документам, езживали и сами в свою отдаленную вотчину. Другой же половиной Твердова прочно завладели Кутузовы — в 1847 г. их часть села в составе щелыковского имения приобрел отец драматурга Н. Ф. Островский. Селение постепенно хиреет, т. к. твердовская вотчина дробится — в середине прошлого века проживало там сорок крестьян. Все они были теснейшим образом связаны с Щелыковом, с драматургом, почти все работали в усадьбе.
Александр Николаевич одно время вел книгу хозяйственных расходов. И в ней нередки такие записи: «Наталья (Твердовская). Старого долгу 15 коп. Взято 25 коп.». Но долги обычно прощались.
Старушка Дарья Михайловна Теплова из Твердова вспоминала в 1930-х годах: в страдную пору украли двух лошадей у ее отца Михаила Филипповича. Островский, узнав о беде, позвал его в усадьбу, и произошел такой разговор:
«Т е п л о в: Александр Николаевич, я пришел. Вы велели побывать.
Островский: Нашел ли ты своих лошадок? | Теплое: Нет, не нашел.
Островский: Как же ты будешь работать?..» ' Беседа закончилась тем, что драматург дал крестьянину 40 рублей: «На вот, купи лошадь». Тот сторговал хорошую лошадь за 35 рублей, а 5 рублей, говорила старушка, еще остались на хозяйство.
В июле 1875 г. Твердово постиг опустошительный пожар. А вскоре Михаил Николаевич Островский писал из Петербурга брату: «… с грустью узнал о несчастье, постигшем Твердово. Очень рад, что ты помог погорельцам во всем, в чем было можно». Помог деньгами, одеждой, скотом, лесом.
Лес Островских подступал к самому Твердову, и твердовские крестьяне чистили его, получая за это сушняк. По словам старожилки Евдокии Петровны Тепловой, иной крестьянин столько леса наберет, что «всю зиму и продает на базаре в городе». Самим Тепловым Островский неоднократно помогал и деловым лесом: «Мы три раза строились».
Я поискал глазами избу Евдокии Петровны — вот она, только совсем покосилась. Правда, это не та изба, в которую много раз захаживал драматург, — та сгорела в 1920-х годах: «У нас, — вспоминала Евдокия Петровна, — был альбом с фотографиями. На них сам Островский надписывал. «Светопись» называется. В альбоме снимки были об уженьи рыбы, о покосе, как мы жали, фотографии Верховского (приятеля драматурга, ивашевского волостного писаря — В. Б.) и их самих… Сгорела и книжка от них его сочинения.»
Однако не с одними Тепловыми был близок в Твердове Островский. Так, он очень ценил удалую работницу Пелагею Дмитриевну Булкину и даже сочинил о ней песню. За многих неимущих твердовских крестьян он уплачивал недоимки. И недаром 83-летняя Екатерина Павловна Корчагина на вопрос литературоведа профессора А. И.Ревякина об Островских без колебаний ответила:
— Плохи ли люди! Таких людей поискать! Кто скажет о них плохо? Островские были господа хорошие, к народу милостивые. Обращались с крестьянами очень хорошо. Когда к ним шли с просьбами, с нуждами, никогда не отказывали.
… Лехмус закончил свой кропотливый труд, и мы вышли за село, на озими. Уже заглохшая тропинка вилась серпантином меж кустов, окаймляющих слева узкое и вытянутое поле, кое-где в топких местах хлюпали под сапогами сгнившие жердочки. Потом тропа юркнула в лесок, и, продравшись с трудом через чащобу, мы наткнулись на железнодорожную насыпь.
До этого мы знали и даже физически почти ощущали, что следуем по пути, который за сотню лет до нас многократно совершал большой любитель пеших странствий Островский — так или примерно так все здесь было и при нем. Но насыпи при нем не было — она появилась совсем недавно.
Взобрались на песчаную насыпь. Впереди, приблизительно в полукилометре, открылась деревенька, стоящая к насыпи околицей и задами изб — справа ее огибал неглубокий распадок. Ядовито-синие ящики для баллонов с газом у боковых стен акцентировали приобщение деревни к современной цивилизации.
— Худяки, — пояснил я спутнику, — когда-то сабанеевское имение. Домов пять жилых, по крайней мере.
— А так странно называются почему?
— Трудно отгадать. У соседнего селения сходное по звучанию название — Маркуши. А Худяки в документах первой половины XVIII в. упоминаются, и в 1813 году владелица Щелыкова Прасковья Кутузова унаследовала их вместе с землей на Исаковке. Потом они достались ее сестре Сабанеевой.
Улицы, собственно, у Худяков нет — избы поставлены вроссыпь, но передом к Порнышевке — худосочному ручью под обрывом. Мы форсировали ручей по доске, положенной на негодные автомобильные покрышки, вышли из уремы и снова очутились на ржаном поле. Его охватывали две дороги, предоставляя возможность выбора — мы предпочли правую, малохоженную. Она изогнулась дугой, обведенной с наружной стороны рощицей.
Роща отступила, образовав кулижку, осыпанную колокольчиками и полевой геранью, — Альберт ползал по ней, чуть не на животе, не менее получаса, так что я стал ворчать. Потом дорожка спряталась в лиственные перелески. Обходя лужи, до краев наполненные теплой водой, мы незаметно вышли из леса и оба невольно ахнули. Все пространство перед нами покрывали высокие люпинусы, синие и белые, являя удивительно красочную картину. Над нашими головами низко летал, надсадно крича, здешний старожил — чибис. Впереди притаилась деревня.
Я не узнал ее и на традиционный вопрос фотокорреспондента о названии недоуменно и виновато пожал плечами, тщетно напрягая память. Неужели сбились с дороги? Что это за селение — уж не Ефимово ли? Только вообще-то мы должны бы оставить его слева, за увалом. Да и деревня насквозь пустая, а в Ефимово, по слухам, приехали на июнь московские художники. Они ныне и блюдут его. В сознании мелькнуло доброе слово «починок». Так при Островском именовалось Ефимово. Основал его в середине XVIII века крепостной кутузовский крестьянин Ефим, а в конце века населяло починок 34 жителя: «Положение имеет на суходоле, водою там жители пользуются для питья из ключей, а портомоем из реки Меры» — точь-в-точь как в Щелыкове. Позднее принадлежало Ефимово тем же Сабанеевым. Двести лет существовала деревня, какие чертоги там строились! Помню внушительный пятистенок из толстых бревен с светелкой и балконом Саши Смирнова, еще до революции перевезенный сюда из Порныша — на века был срублен, а простоял, когда его бросили, всего года три. Не рушил никто — сам завалился.
Нет, при чем тут Ефимово! Другая какая-то это деревня! Впрочем, вон памятный столб, какие вкопаны Музеем-заповедником повсюду вокруг Щелыкова. Подошел, приминая полынь, прочел надпись и не поверил глазам: «Деревня Высоково».
Постепенно стал я узнавать прежнюю деревню. Были две причины, что не сориентировался на местности сразу. Первая — раньше видел ее только жилой. В Высоково впервые я попал в начале шестидесятых годов: скрипел колодец, из-за плетней огородов выглядывали подсолнухи, за околицей паслись белые и чалые лошади, на лавочках сидели люди. В каждый из последующих моих приходов их становилось все меньше, но деревня жила. Вторая причина — прежде я всегда приходил в Высоково по торной дороге от Ефимова. С краю стояли две избы в одной связи Ефима Павловича Туманова, бывшего председателя высоковского колхоза. Он дольше всех держался за Высоково. Односельчане уже покинули деревню, а он, и оставшись один, подрубил у избы два новых венца, будто рассчитывал прожить в ней долгие годы. Наконец и Туманов не вытерпел зимнего сиротливого одиночества и бездорожья и перебрался в Заволжск…
Высоково — любимое селение Островского в Кинешемском уезде. Наиболее отдаленная часть его имения, а приезжал сюда он чаще, чем в иные, ближайшие к Щелыкову места. Сам объяснил причину этого, написав друзьям в первый же майский приезд 1848 года восторженные слова: «Что за реки, что за горы, что за леса!.. На юг от нас есть, верстах в пяти, деревня Высоково, из той виден почти весь Кинешемский уезд. У этой деревни течет Мера — что это за удивительная река! Если бы этот уезд был подле Москвы или Петербурга, он бы давно превратился в бесконечный парк, его бы сравнивали с лучшими местами Швейцарии и Италии».
Еще в одно из прошлых появлений я легко отыскал место, где только и мог встать Александр Николаевич, окидывая взглядом «почти весь Кинешемский уезд» — мысок у крутояра, за последней к югу избой Мальчу-гиных. Не берусь, правда, утверждать, что видна отсюда территория целого уезда — ведь писатель в минуту вдохновения парит под облаками и все видит мысленным взором, но действительно приподнятое над местностью Высоково представляет из себя один из лучших уголков на Мере. Какой отсюда умопомрачительный вид вдаль или вниз на реку! Ровный, отлогий, долгий-долгий спуск кончается у Меры. Летом он покрывается сплошным ковром ромашек и мелких колокольчиков. Ниже, у берега Меры, преобладают гвоздики, смолка и с детства знакомый цветок с мохнатой сиреневой шапкой и тоже с детства позабытым названием — на нем любят сидеть шмели. В облачный день луг поминутно меняет цвет — весь сиреневый, даже розовый на солнце, он в тени делается малиновым.