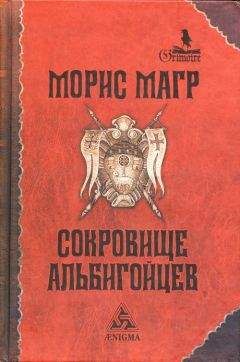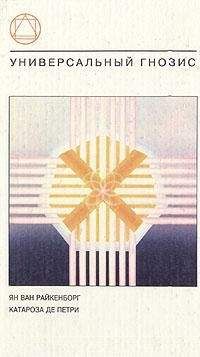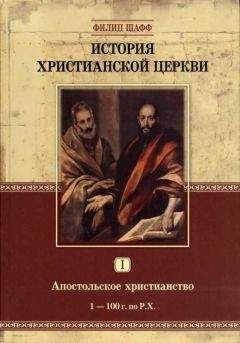Я сомневался в правдивости подобных рассказов. И часто смеялся над ними вместе с остальными здравомыслящими монахами, каковых, честно говоря, в Меркюсе было немало. Но имя Эсклармонды сохраняло свое загадочное обаяние. Стоило мне его произнести, как перед глазами немедленно возникали картины греховные и чародейские. И вот сейчас эта прекрасноликая колдунья, окруженная легендарным ореолом проклятия, лежала передо мной на ложе из песка, утопая в полуденной неге и озаренная отблесками солнца и воды!
Мне следовало бежать, повинуясь естественному чувству стыда. Грех смотреть в лицо тем, кто душой предался злу. От страха у меня, кажется, застучали зубы. Но тут кровь прилила к вискам и закипела, разгоряченная неведомой силой. Я почти ничего не знал о женщинах. До своего послушничества я иногда бродил по улочкам Тулузы, идущим от собора Сен-Сернен к городским стенам. Вечерами там всегда звучали песни и музыка: играли на небольших барабанах, именуемых дарбуками. Их привезли к нам арабы, и хотя на них играли для веселья, звуки они издавали необычайно заунывные. В Тулузе были улица Иудеек и улица Мавританок. Одной мавританке я понравился. На первом этаже, в комнате с низким потолком, где вместо мебели лежала грязная циновка, а на сундуке для одежды примостился глиняный кувшин для омовений, я внимал словам любви. Из-за стены доносились звучные шлепки и крики дерущихся женщин, а пьяные солдаты, стоя на улице, молотили кулаками в дверь, требуя немедленно их впустить. С тех пор мне казалось, что в тот жуткий вечер я совершил мрачное путешествие на гибельном судне и едва не утонул среди каменных волн, вздыбленных бурей нечестия.
Но сейчас мне почему-то вспомнились переборы струн и грустные песни, исполнявшиеся пьяными голосами; я вдыхал жар, исходивший от женской плоти, а где-то неподалеку звучала мелодия, наигрываемая на дарбуке, печальная, словно предчувствие неведомого дурного поступка, который ты готов совершить.
Осторожно раздвинув ветки дикого лавра, я шагнул вперед и почувствовал, как лицо мое обретает скотское выражение.
Девушка меня не видела. Она лежала неподвижно, и эта неподвижность остановила меня. Но вот она тряхнула головой, волнообразное движение ее молочно-белой шеи передалось плечу и, словно пробежавший по телу луч, затерялось в складках льна.
Тогда я бросился вперед. Ослепленный страстью зверь проделал дыру в зарослях, песок под ним захрустел, и он набросился на распростертую на песке добычу. Добыча была легкой и не сопротивлялась. Обхватив ее за талию, я рванулся вперед, увлекаемый инстинктом, толкающим дикого зверя на поиски укромного уголка.
Послышался слабый стон, и изящные руки попытались оттолкнуть меня. Но это движение тела, притиснутого к моему телу, лишь сделало крепче пьянивший меня дурман. Я скакал, ломая ветки и продираясь сквозь листву. На секунду я замедлил бег и отцепил от куста ее роскошные волосы. Когда тропа свернула от реки в сторону, я увидел впереди высокую глухую стену леса, дарующего тень и благодать уединения.
Слуги ли с опозданием бросились на помощь своей хозяйке? Или жители деревни, пустившиеся за мной в погоню, выследили меня? Мне казалось, что за спиной у меня звучат крики, а рядом в воздухе просвистела стрела. Но я уже чуял приближение прохлады, царящей среди высоких деревьев, запах волчьего логова и хищных птиц.
Внезапно опустив голову, я впервые увидел лицо похищенной мною женщины. Приоткрытые губы позволяли рассмотреть сверкающие белизной зубы, черты лица были совсем юные, почти детские, но, как ни странно, они не были искажены ужасом: мое потное, заросшее волосами лицо, исходивший от меня запах мужчины не испугали девушку, закутанную лишь в тонкое льняное покрывало. Я изумился, но продолжил бег. Только еще ниже склонился над ней. И тогда в правильном овале ее лица, в соотношении приподнятых бровей с линией волос и складками рта я подметил какую-то странную геометрию, некую неизменную пропорцию, не подверженную воздействию ни страха, ни желания. Чувствуя, что метафизическая задача, поставленная изгибами ее плоти, недоступна моему разумению, я стал искать решение в ее взоре. Взор был синий и бездонный, словно увиденная во сне широкая дорога, по обеим сторонам которой выстроились колонны, испещренные иероглифами, и эта дорога вела в неведомую даль, где в призрачной дымке высился храм. В ее взоре, леденящем, словно меч Страшного суда, не было ненависти, но не было и прощения.
Новое ощущение с неистовой силой захлестнуло меня. Я был мужчиной, уносившим не женщину, но скинию духа. Украл святая святых неизвестной мне религии. Я не мог оценить весь ужас совершенного мной святотатства, его последствия для царства ангелов и те кары, что выпадут мне на долю. Свет духа избрал себе творение, дабы воплотиться в нем, он выбрал наиболее совершенное творение, а зверь, отдавая дань первозданному закону осквернения, покусился на него. Этим символическим зверем был я, что позволил грубым силам одержать надо мной верх: отринув все духовное, оборотился порчей, цветущей проказой, гнойником, готовым взорваться и отравить своим ядом все вокруг.
Вытянув руки, я поднял пленительную фигурку избранницы и поставил ее на землю, удивляясь, как это я не был уничтожен при одном только прикосновении к ней. Неподвижная словно статуя, она пронзала меня холодной сталью взора. Скрестив руки, она придерживала на груди покрывало; свет свободно проходил сквозь ее тело. Под покрывалом струился незамутненный свет. Она стояла перед темной лесной громадой, облаченная в сияние, присущее, по нашим представлениям, исключительно божествам; земля не пачкала ее ног, воздух казался мутным по сравнению с исходящим от нее светом, а деревья выглядели пришельцами из чужого, грубого мира.
Со всех сторон приближались человеческие голоса. Мне захотелось упасть на колени и заплакать. Но тяга к жизни была сильнее. Несколькими прыжками я достиг края леса и скрылся среди деревьев.
В лучах заходящего солнца стальные шлемы часовых на башнях барбаканов вспыхивали, словно светильники. Передо мной в беспорядке громоздились башенки и кровли домов; окруженный стенами из розового кирпича город походил на рыцаря в пурпурном колете.
Когда я подошел к воротам Монтолью, четверо мужчин уже сдвигали с места тяжелые, обитые металлическими гвоздями створки, намереваясь закрыть их. Если стражникам про меня уже рассказали, меня могли схватить как нарушителя спокойствия, а если нет, то эта участь все равно мне угрожала, ибо я походил на одного из тех бродяг-прокаженных, которым вход в город воспрещен. Поэтому я поспешил затесаться в толпу крестьян и нищих, резво семенивших по подъемному мосту. Отвыкнув от оживленного многолюдья столичного города, я с удивлением обнаружил, что ноги сами понесли меня на улицу Пурпуантри — полюбоваться ее великолепием.
Во времена своих графов Тулуза могла сравниться разве только с Византией или античной Александрией. Рыцари, возвращавшиеся из крестовых походов, привозили с собой восточные моды, пристрастие к роскошным разноцветным тканям. Через порты Эг-Морт и Нарбонн из Триполи везли выделанные кожи, с острова Джерба — ткани, из стран Магриба — слоновую кость и перья страусов. В лавках, где торговали клетками с разноцветными попугаями, на жердочках из экзотических пород дерева переливчато блестели щеглы, нильские ибисы дремали на тонкой ноге, поджав другую под себя. Торговцы открывали кованые сундуки, выставляя напоказ драгоценный лазурит из Кетама, а стены вместо ковров украшали кораллами самых разных цветов и оттенков. А если случалось пройти мимо лавки, где продавали заключенные в причудливые сосуды благовония, то одежда потом не один месяц хранила ароматы мускуса, алоэ, амбры и розы. В Тулузе можно было встретить похожих на веселых демонов негров, прибывших из Варварийских земель, и мавров в зеленых шелковых тюрбанах, приехавших из Севильи или Гранады, и византийских купцов с хитрыми глазками. Благородные тулузки, передвигавшиеся в носилках с кисейными занавесками, казались багдадскими принцессами.
Я вошел в город под вечер, когда повсюду хлопали ставни и зажигали огонь в светильниках. Прежде чем затвориться в доме до утра, соседи желали друг другу доброй ночи. Великолепие несравненной улицы Пурпуантри угасало, словно драгоценное содержимое ларца, откинутую крышку которого медленно закрывает чья-то невидимая рука. Двигаясь по улице, я различил несколько знакомых силуэтов, узнал лица нескольких девушек, с которыми когда-то обменялся улыбками, и, избегая любопытных взоров, опустил голову.
Свернув на улицу Августинцев, я добрался до предместья. Двигаясь по уходящей вверх улице Иудеек, я почувствовал, что сзади кто-то идет. Один из нищих, с кем вместе я прошел через ворота Монтолью, упорно следовал за мной. Чтобы оторваться от него, я сделал огромный крюк по улице Труа-Пилье. Но настал час, когда в центральных кварталах улицы с обеих концов перегораживали цепями. Чтобы добраться до отцовского дома, приходилось ждать утра.