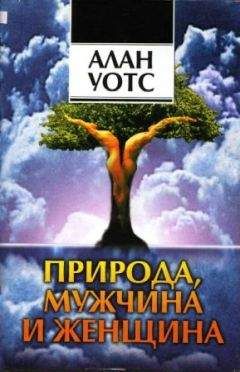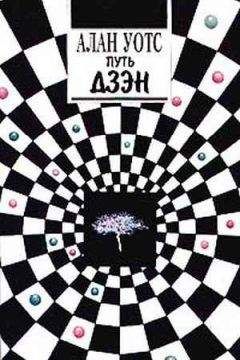В теологических кругах сказать о ком-то, что его мировоззрение близко к «пантеизму», означает изобличить этого человека. Все те, кто желает, чтобы их философские и религиозные воззрения были четкими и определенными, используют слово «мистицизм» в таком же смысле. Они ассоциируют мистицизм (mysticism) с туманом (mist), расплывчатостью, уходом от проблем и стиранием различий. Поэтому ничто для них не может быть страшнее, чем «мистический пантеизм» или «пантеистический природный мистицизм» — мировоззрение, к которому, как может показаться, сводится гуань. Сколь бы убедительными ни были свидетельства об обратном, многие продолжают считать, что даосский и буддистский мистицизм сводит интересные и важные различия, наблюдаемые в мире, к зловещему всеобщему единству.[30] Я — Бог, вы — Бог, все — Бог, и Бог — это безбрежное однородное море киселя, который наделен смутным самосознанием. Поэтому мистик — это тщедушный парень, который черпает энтузиазм из этого скучного «недифференцированного эстетического континуума» (Нортроп), потому что каким-то непонятным образом он разрешает конфликты и превращает все проявления зла в трансцендентное благо.
Хотя такой подход, очевидно, есть всего лишь невежественная карикатура, нужно сказать кое-что в защиту философской неопределенности. Критики всех мастей соединяют свои усилия в том, чтобы высмеивать ее, — тут мы встретим логических позитивистов и католических неотомистов, диалектических материалистов и протестантских ортодоксалов, бихевиористов и фундаменталистов. Несмотря на то что их воззрения существенно различаются, все они относятся к психологическому типу, который любой ценой стремится сделать свою философию жизни четкой, здравой и жесткой. К этой категории мыслителей относятся многие — от ученого, который с удовольствием рассуждает о «суровых» фактах, до религиозного деятеля, который уверен в «окончательной истине» своей догмы. Несомненно, что всякий, кто говорит: «Единственно верное учение церкви гласит…», черпает из этих слов глубокую безопасность. То же можно сказать о человеке, освоившем логический метод, который позволяет растерзать на куски любое мнение, особенно метафизическое. Такое отношение обычно характерно для людей агрессивного, недружелюбного нрава, которые пользуются определениями философских категорий как остро отточенным мечом. Это не просто метафора, потому что мы видели, что научные законы и гипотезы — не столько результаты открытий, сколько инструменты для подчинения природы своей воле, подобно ножам и молоткам. Поэтому здесь мы имеем дело с личностью, которая встречает мир, предварительно вооружившись до зубов режущими и колющими инструментами. Такая личность рассекает реальность на куски и сортирует их по категориям, потому что таинственность мира доставляет ей неудобства.
В нашей жизни есть место острому ножу, но есть в ней также не менее важное место и другим типам взаимодействия с миром. Человек не должен быть интеллектуальным дикобразом, который встречает свое окружение острыми шипами. Человек соединен с миром мягкой кожей, взирает на него через филигранный хрусталик глаза и внимает ему чувствительными барабанными перепонками. Кроме того, человек может воспринимать мир посредством теплого, тающего, смутно определенного прикосновения, — что позволяет ему видеть в нем не врага, которого нужно удалить от себя на безопасное расстояние и расстрелять, а любимую жену, которую хочется обнять и приласкать. В конце концов, сама возможность недвусмысленного знания зависит от чувствительных органов, которые привносят окружающий мир в наше тело и дают нам представление о нем в терминах состояний этого тела.
Отсюда вытекает важность неопределенности и других инструментов ума, которые не четко определены, а туманны и расплывчаты. Они позволяют нам по-другому общаться с миром и поддерживать более непосредственный контакт с природой, чем тот, который имеет место, когда мы любой ценой пытаемся сохранить дистанцию «объективного рассмотрения». Китайским и японским художникам хорошо известно, что существуют ландшафты, которые лучше всего рассматривать через прищуренные веки, горы, которые наиболее красивы в тумане, и водная гладь, которая плавно переходит в небо у самого горизонта.
Вечером в тумане одиноко летит гусь;
Широкий плёс и небо сливаются у горизонта.
Обратите внимание также на стихотворение Бо Цзюйи «Иду ночью под мелким дождем»:
Все небо укрыв, осенние тучи нашли,
Подкравшись во мгле, явился холод ночной.
Лишь чувствую, как халат на мне отсырел,
А капель дождя и шума их тоже нет.[31]
И на стихотворение Цзя Дао «Ищу отшельника напрасно», переведенное Линь Юданом:
С вопросом обратился к мальчику меж сосен.
Ответил мне он: «Мастер в одиночестве ушел
И собирает где-то травы на горе,
Окутанной облаками, погруженной в неизвестность».
Схожие образы были собраны вместе Сэами, когда он описывал то, что японцы называют югэн, утонченной красотой, истоки которой неясны и таинственны: «Смотреть, как солнце садится за покрытые цветами холмы; уходить все дальше и дальше в огромный лес, не думая о возвращении; стоять на берегу и наблюдать, как лодка скрывается из виду за далекими островами; следить за полетом диких гусей, которые вначале видны, но потом теряются среди облаков».[32] Однако что-то в нас всегда готово выскочить наперед и развеять тайну. Нам хочется выяснить, куда именно улетели дикие гуси; узнать, какие травы собирает отшельник и где; а также посмотреть на тот же цветущий пейзаж в солнечный полдень. Именно этот подход каждая традиционная культура не может простить западному человеку не только потому, что он груб и нетактичен, но и потому, что он слеп. Такой подход не может отличить поверхность от глубины. Он стремится разрушить поверхность и проникнуть в глубину. Однако глубина познается только тогда, когда она сама открывается уму. От ищущего ума она вечно ускользает. Чжуан-цзы говорит:
Вещи возникают вокруг нас, но никто не знает откуда. Они появляются, но никто не видит их источника. Люди от мала до велика ценят то, что они знают. Они не умеют пользоваться неизвестным для получения знания. Как это не назвать заблуждением?[33]
Очень часто нам трудно провести грань между страхом перед неизвестным и уважением к нему. Мы полагаем, что люди, которые не торопятся пустить в ход яркий свет и острые ножи, одержимы предрассудками и суеверным страхом. Между тем уважение к неизвестному — это отношение тех, кто вместо того, чтобы насиловать природу, ухаживает за ней, пока она не отдастся сама. И дает природа не холодную ясность поверхностей, а теплую внутренность своего тела — тайну, которая является не просто отрицанием или отсутствием знания, а положительной субстанцией, которую мы называем чудесной.
«Из доступных человеку чувств нет ничего выше удивления, — сказал Гёте. — Если первичный феномен вызывает удивление, довольствуйтесь этим; большего он не может дать. Не ищите чего-то большего за пределами удивления, потому что это предел. Однако, как правило, людям недостаточно первичного феномена. Они считают, что следует идти дальше. В этом они подобны детям, которые, увидев себя в зеркале, заглядывают за него, чтобы увидеть, что находится по другую сторону».[34]
Уайхед объясняет:
Даже если вы знаете многое о солнце и атмосфере, даже если вы досконально изучили феномен обращения земли, вы можете не заметить великолепного заката. Непосредственное восприятие [гуань] реального присутствия вещи заменить нечем.[35]
Это, конечно же, подлинный материализм или, лучше сказать, подлинный субстанционализм, поскольку понятие «материя» (matter) этимологически связано с понятием об «измерении» (измерять: to meter) и, по существу, обозначает не реальность природы, а природу, описанную с помощью измерений. «Субстанция» в этом смысле будет не грубым представлением о «веществе», а сущностью, которая обозначается китайским иероглифом ти.[36] Ти — целостность, гештальт, все поле отношений, которое не может быть передано с помощью линейных описаний.
Поэтому естественный мир открывается нам во всей своей чудесности, когда уважение не позволяет нам исследовать его на уровне абстракций. Если я должен заглянуть за каждую линию горизонта, чтобы обнаружить, что находится за ней, я никогда не увижу глубину небесной лазури, которая видна в просвете между деревьями на склоне холма. Если я должен нарисовать карту каньонов и пересчитать все деревья, я никогда не войду в звук далекого водопада. Если я должен пройти по каждой дороге, чтобы узнать, куда она ведет, окажется, что тропинка, исчезающая среди деревьев на склоне холма, ведет назад в пригород. Человек, который прослеживает каждую дорогу до конца, обнаруживает, что она никуда не ведет. Воздержаться от исследования не означает отложить горькое разочарование в подлинных фактах. Воздержаться от исследования означает увидеть, что человек, всматривающийся в горизонт, не видит того, что находится рядом.