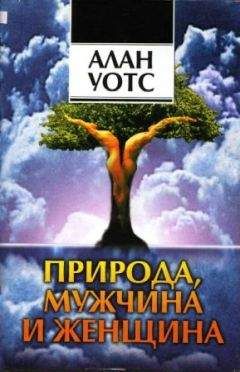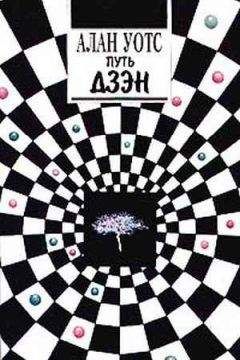Чтобы познать природу, Дао или «субстанцию» вещей, мы должны познавать ее так, как человек «познавал» женщину — в теплой расплывчатости непосредственного прикосновения. В древнем мистическом трактате «Облако неведения» говорится о Боге: «Любовью можно его постичь и удержать, но мыслью — никогда». Отсюда следует также, что ошибочно считать природу смутной, как туман, рассеянный свет или кисель. Образ смутности подразумевает, что для познания природы вне и внутри себя мы должны отказаться от идей, мыслей и мнений о том, что она должна собой представлять, — и смотреть. Если мы не можем обойтись без идей, это должны быть неопределенные идеи — именно поэтому для западных людей представление о бесформенном Дао предпочтительнее, чем идея о Боге со всеми ее недвусмысленными ассоциациями.
Опасность «пантеистического» и мистического отношения к природе, конечно же, в том, что оно может быть исключающим и односторонним, хотя мы едва ли найдем много исторических примеров подобного отношения. Для появления такого отношения нет оснований, потому что отличительная черта пантеизма и мистицизма как раз в том, что они дают нам бесформенный фон, на котором практические проблемы видны более отчетливо. Когда наше представление о Боге формально, поведение в повседневной жизни становится столь же проблематичным, как попытки писать по исписанной странице. Вопросы не могут быть однозначно рассмотрены, потому что люди не видят, что проблемы добра и зла подобны грамматическим правилам—условностям, введенным в обиход для нужд общения. Когда мы прибегаем к Абсолюту для того, чтобы обосновать разделение на правильное и неправильное, не только правила становятся слишком жесткими; для их подтверждения привлекается слишком весомый авторитет. Китайская пословица гласит: «Не пытайся прихлопнуть комара на лбу товарища топором». Нельзя сказать, что, сводя правила поведения к Богу, Запад преуспел в достижении высоконравственного поведения. Напротив, западная история дает много примеров идеологических революций, направленных против невыносимого гнета власти. То же верно в отношении жесткой научной догмы, которая определяет, что правильно, а что нет.
Мистицизм избегает давать жесткие определения природы и Бога, и поэтому он, как правило, оказывает положительное влияние на развитие науки.[37] Мистический подход эмпиричен. Он подчеркивает конкретный опыт, а не теоретические установки и поверья. Установка мистицизма — на созерцание, на восприятие. Это отношение оказалось настолько благоприятным для науки, что ученые забыли, что имеют дело не с самой природой, а с ее абстрактной моделью. Цивилизация в целом начала близоруко вмешиваться в природу, по-прежнему руководствуясь донаучными представлениями о человеке и мире. Более того, мистический подход дает основания для деятельности, всецело отличные от откровений воли Господней и законов природы, полученных в результате экспериментов в прошлом.
Гуань как состояние сознания очень чувствительно к текущему мгновению во всей его мимолетной сложности, тогда как одна из трудностей научного знания в том, что его линейная сложность не позволяет эффективно принимать решения, особенно тогда, когда условия быстро меняются. Так, высказываясь о мастерстве драматических постановок, Сэами пишет:
Если вы посмотрите глубоко в первоосновы этого искусства, вы увидите, что так называемый «цветок» (югэн) не обладает независимым существованием. Если бы зрители не находили в представлении множество несравненных достоинств, «цветка» вообще не было бы. В Сутре говорится: «Добро и зло проистекают из одного источника; добродетель и порок имеют один корень». Воистину, как мы можем отличить добро от зла? Мы можем только выбрать то, что соответствует требованиям момента, и назвать его «добром».[38]
Такого рода отношение было бы весьма недалеким, если бы оно основывалось на линейном представлении о текущем моменте, в котором каждая «вещь» не рассматривается в связи с целым.[39] Так, например, люди, которых мы больше всего ненавидим, нередко оказываются теми, кого мы больше всего любим, и если мы не чувствуем этой взаимосвязи, мы можем строить свое отношение, принимая за основу одну из крайностей. Таким образом, мы можем погубить того, кого любим, или же вступить в брак с человеком, которого впоследствии будем ненавидеть.
Это рассуждение приводит нас ко второму теоретическому возражению. Считается, что эго, как «ментальный зажим» необходимо для того, чтобы нас не унес поток неконтролируемых ощущений и чувств. Это возражение, опять-таки, основывается на политическом, а не органическом представлении о человеческой природе. По общему мнению, психика состоит из отдельных частей, функций или способностей — как будто Бог сотворил человека, водрузив душу ангела в тело животного. С такой точки зрения, человек рассматривается как совокупность мотивов, побуждений и желаний, над которыми главенствует эго-душа. Очевидно, что это представление оказало большое влияние на современную психологию, призывающуя эго действовать рассудительно и не прибегать к насилию, но все же рассматривающую его как начальника, который несет ответственность за происходящее.
Но если мы думаем обо всей совокупности человеческих переживаний, внешних и внутренних, а также об их бессознательных предпосылках как о системе, которая органична, изменится также наше представление об управлении:
Веселье и гнев, радость и печаль, предусмотрительность и раскаяние — эти чувства приходят и уходят, повинуясь мимолетным переменам настроения. Они возникают, как музыка из отверстий [в деревянном музыкальном инструменте, на котором играет ветер] или как грибы из лесной сырости. Денно и нощно самые разнообразные чувства охватывают нас, но мы не знаем, откуда они приходят…
Если бы не эти эмоции, меня бы не было. Если бы не я, им не было бы в ком проявиться. Мы знаем это, но не знаем, что приводит их в действие. Если у них действительно есть повелитель [цзай, М 6655], в нас нет никаких свидетельств в пользу его существования. Мы можем верить в то, что он действует, но мы не видим его формы. Мы знаем о нем, лишь что он рождает чувства и не имеет формы.
Сотня костей, девять отверстий и шесть внутренних органов тела пребывают на своих местах. Какой из них нам предпочесть? Любим ли мы их одинаково, или же одни из них более дороги нам, чем другие? Являются ли они слугами друг друга? Могут ли эти слуги управлять друг другом одновременно или же они должны принимать на себя роль правителя по очереди?[40]
Го-сян затрагивает этот вопрос в своем комментарии к Чжуан-цзы:
Руки и ноги отличаются в своих действиях, пять внутренних органов отличаются в своих функциях. Они никогда не переговариваются друг с другом, и все же сто составных частей тела пребывают в единстве и гармонии. Так они общаются посредством не-общения. Они никогда (сознательно) не взаимодействуют, и все же как вовне, так и внутри они дополняют друг друга. Вот что такое взаимодействие посредством не-взаимодействия.[41]
Все части организма управляют собой спонтанно (цзы-жань), и их взаимодействие нарушается с появлением контролирующего эго, которое пытается сохранить положительное (Ян) и избавиться от отрицательного (Инь).
В соответствии с даосской философией, именно попытки управлять психикой извне, а также стремление отделить положительное от отрицательного лежат в основе социальных и моральных противоречий. Таким образом, в контроле нуждается не спонтанный поток человеческих страстей, а использующее их эго — другими словами, сам контролирующий. Это было известно также проницательным христианам, например св. Августину и Мартину Лютеру, которые постигли, что обычный ашо-контроль не спасает человека от пороков, поскольку зло коренится в «я» человека. Однако они никогда не отказывались от политической идеи контроля, предлагая решить проблему путем усиления «я» с помощью милости Бога — эго вселенной. Они не видели, что трудность не в доброй или злой воле контролирующего, а в самом представлении о контроле, который они пытались использовать. Они не понимали, что для Бога — это такая же проблема, как и для человека.
Ведь даже во вселенной Бога есть Дьявол, олицетворяющий не столько независимое злое начало, сколько «недосмотр» Бога, принявшего на себя верховную власть и отождествляющего себя с абсолютным благом. Дьявол — это тень Бога, непроизвольно отброшенная им. Естественно, Бог не может нести ответственность за появление зла, потому что связь между ними находится в бессознательном. Человек говорит: «Я не собирался никого обижать. Мой нрав одержал верх надо мной. В будущем я попытаюсь справиться с ним». Бог говорит: «Я не хотел, чтобы было зло, но мой ангел Люцифер создал его, воспользовавшись своей свободой воли. В будущем я запру его в ад, чтобы он никому не причинил вреда».[42]