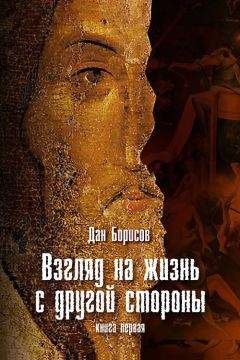Центральный подъезд со стороны переулка имел парадное чугунное крыльцо изумительного узорчатого литья, но дверь его всегда (по проф. Преображенскому) была заколочена. Ходили со двора, через черный ход. В небольшом дворе располагались какие-то хозпостройки и небольшой одноэтажный домик с какой-то сов. конторой. Этот домик описан в романе Акунина «Любовница смерти» как жилище злого и коварного Просперо.
Недостатков в тогдашней Москве, конечно, хватало. Особенно бросается в глаза обилие коммунальных квартир и теснота в этих квартирах. Но это неудобство для взрослых, а детям даже лучше в таких условиях, во всяком случае, веселее.
Наша квартира мне казалась огромной. Справа от входа была кухня со столами всех жильцов и газовой плитой, периодически меня на этой кухне мыли в оцинкованном корыте. Слева от входа – небольшой закуток с дверью в сортир и над этой дверью – выход на чердак. Если идти прямо от двери, то по правой руке первая комната принадлежала деду Сорокову, кроме него там жило еще человек пятнадцать и, собственно, дед с бабкой ночевали на сундуке в коридоре. Слева жили старики Холины вдвоем. Наша комната была второй справа.
Комната с одним окном, маленькая – метров 12 квадратных. Из мебели отчетливо помню только диван с высокой спинкой и откидными валиками. Помню зеленый коврик с оленями на стенке, он хорошо гармонировал с книжкой, которую мне читали на ночь, называлась она «Мама ланей». Помню еще ширму «фамильную» и обеденный стол посредине, под который я ходил пешком. Помню игрушки свои у окна: водокачку с колесиками, большую юлу и барабан. Я долбил по этому барабану палочками, когда мы с отцом пели «Мы шли под грохот канонады», про юного барабанщика. Из музыкальных инструментов у нас были еще трофейный аккордеон, привезенный отцом с фронта, и балалайка. Одним словом, всё было замечательно.
Москва, вообще, тогда была очень приятным, уютным и веселым городом. Сейчас мне больно бывать в Москве, я стараюсь не ездить туда, особенно в центр. Такое впечатление, что мумии старых домов подмазаны, подразукрашены и заселены временными жильцами, типа скарабеев или их личинок, съедят внутренности и уйдут в другое место. Может, я нехорошо сказал, но такое ощущение есть, что, не смотря на внешнюю мишуру, старые дома уже не живые. Или это похоже на то, как если бы мой родной город оккупировал враг и насаждает теперь в нем свои порядки, а получается это у него плохо, потому что старое, родное скорее готово умереть, чем подчиниться вражеским порядкам.
Моим воспитателем в М. Кисельном был дед Иван Холин. Не то что бы воспитателем даже, а сиделкой. Рано утром в сонном виде меня перетаскивали в соседнюю комнату и, заснув вечером у себя, утром я просыпался на высокой кровати Холиных. Днем мы гуляли на Рождественском бульваре, а вечером мать забирала меня. Она тогда работала главным инженером красильно-отделочной фабрики, а отец, офицер, был тогда начальником легендарной хоккейной команды ЦДКА, в которой играли Тарасов, Бобров и др.
Дед Иван запомнился мне худощавым стариком с седой щетиной на щеках, но бесконечно добрым человеком. Кстати, как я узнал позже, его фамилия выбита золотыми буквами на стене георгиевского зала в Кремле – он был полным георгиевским кавалером.
В 1916 году с ним был такой случай: он приехал в Москву с фронта и, по такому случаю, немножечко переборщил с приятелем в кабаке. По пути домой они свалились где-то под забором и уснули. Их, естественно, подобрал патруль, и проснулись они утром в кутузке. Сейчас немногие знают, что царская Россия, особенно в последние свои годы, была правовым государством в гораздо большей степени, чем в наши дни, и одним из непререкаемых правил было то, что полных георгиевских кавалеров нельзя заключать под стражу. Иван Холин проснулся в камере, расстегнул шинель и вызвал часового.
Что было бы в наше время? Сто вариантов: 1. Избили и украли ордена, сказав, что так и было; 2. Совсем бы убили, свалив на сокамерников; и т. д. Самый благоприятный вариант: втихаря порвали бы протокол и, отпустив, пригрозили бы, чтоб молчал. А что произошло тогда? Через пятнадцать минут в камеру подали хороший завтрак из соседнего ресторана, с выпивкой, на всех! За время трапезы, к дверям кутузки собрали духовой оркестр и проводили героя к извозчику с развернутым знаменем Московской комендатуры под щемящие звуки Прощания Славянки.
Кстати сказать, подробные воспоминания я начал с детства, но в первую очередь я составил таблицу по годам. И как-то сама собой эта таблица разделилась на тринадцатилетние циклы. Так получилось. Не могу сказать, касается это только меня или всех остальных людей тоже, но в процессе последовательного расположения материала стало очевидным, что раз в тринадцать лет как будто бы происходит повторение. Появляются какие-то сходные моменты, параллели. Такое впечатление, что начинается новый цикл жизни. Непонятно почему у людей сложилось неприязненное отношение к числу «13»?
Впрочем, это тема отдельного семинарского занятия, как говорил один мой друг, ныне покойный. Оставим все эти цифровые изыски пифагорейцам. У меня так получилось: первые тринадцать лет – детство; вторые – юность; третьи – сила; четвертые – зрелость, и так далее. Однако, я вполне отдаю себе отчет в том, что четких границ между периодами нет и быть не может, это во-первых. Во-вторых: сейчас я в этом абсолютно уверен, что наличие и длительность периодов никак не связана с качеством воспитания или самостоятельной работы над собой – эти жизненные этапы нам навязываются извне, со стороны или, как некоторые считают «свыше». Но с этим, опять же, мы, может быть, разберемся дальше, если попадутся подходящие примеры из практики.
Прежде чем вспоминать себя, попытаюсь вспомнить то, что мне известно о моих родителях, в «доменяшечную» эпоху.
Отец родился в Москве. В точности его паспортной даты рождения я не уверен. Когда он уходил на фронт в 1943 году, как поступали многие на его месте, приврал с датой рождения, а поскольку почти вся его жизнь в дальнейшем была связана с армией, эта дата так и осталась в его бумагах. Мистика, но после смерти отца, я почти каждый год пропускаю его паспортный день рождения.
Родился он в Хамовниках, но несколько позже семья переехала в М. Кисельный переулок. Деда своего по отцу, Ивана Васильевича, я совсем не знал, он ушел из семьи еще до войны. Знаю, что родом он был вятский, работал оперативником НКВД, потом был двадцатипятитысячником, организовывал колхоз, в деревне, где родилась моя мать.
Отец рассказывал, как они уезжали туда. На вокзале, пока они ждали посадки в поезд, у них украли какой-то узелок или чемодан, которых было, видимо, не мало. Бабушка начала ругаться на деда. Тот долго и молча слушал, держа руки в карманах пиджака. Как выяснилось позже, в одном из карманов у него лежал револьвер, а палец непроизвольно нажимал на спуск. После выстрела бабушка успокоилась, пуля, слава богу, никого не задела, даже рикошетом.
Бабушка, Екатерина Афанасьевна, не смотря на свои радикальные коммунистические убеждения и членство в ВКП(б), была родом из московской купеческой семьи. Работала она завмагом, верней завмагами, потому что её всё время перебрасывали по распоряжению райкома в магазины, где начальство проворовалось, для организации честной торговли. Бабушку по отцу, как и деда, я живой никогда не видел. Она умерла в 1948 году от инфаркта.
У отца был старший брат. Отцы и фамилии, правда, у них были разные. Дядя Миша пережил моего отца на несколько лет и рассказал мне кое-что из довоенной жизни. Отца своего, до этих рассказов, я представлял очень сдержанным и рассудительным человеком, но в детстве он, оказывается, был изрядным хулиганом. Об этом можно было догадаться по татуировкам на его руках, но я, видимо, внутренне не решался на такое святотатство в сопоставлениях.
Дядя Миша рассказывал о драках между деревнями «стенка на стенку» во времена колхозного строительства, о московской довоенной жизни, но сейчас я уже не могу разделить, то, что я услышал от него и то, что знал раньше от родителей. Я по себе знаю, что даже в шестидесятые годы, годы моей юности, тяжело было нормальному мальчишке избежать знакомства с уголовным, или как тогда говорили «блатным», миром в стране, где миллионы людей одновременно находились в тюрьмах и лагерях. А в довоенные годы – тем более. Тем еще более, что в двух шагах от нашего переулка начинались заброшенные развалины Рождественского монастыря, простиравшиеся до Трубы – самого воровского района Москвы.
Отец ушел на фронт добровольцем, но не сказать, чтобы без давления обстоятельств. В первые годы войны он бросил школу и работал токарем на военном заводе. Впрочем, все заводы тогда были военными. Точил снаряды для фронта, выполнял по три нормы, и был на хорошем счету, но у него всё же были какие-то проблемы с властями и, если бы он не скрылся от этих проблем на фронте, у него могли развиться серьезные неприятности. Сам он никогда об этом не говорил, но мать мне как-то сказала, что он в те поры даже отметился в Бутырках.