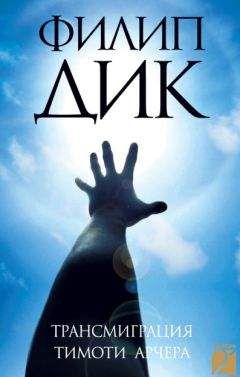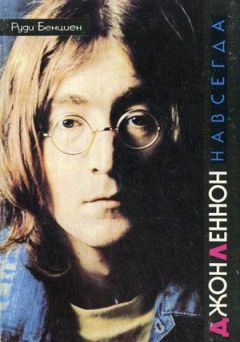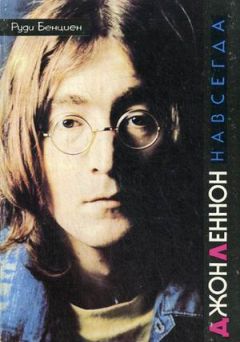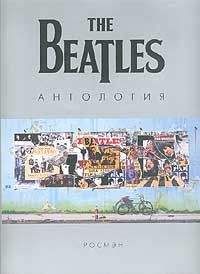— Parousia, — предложила я.
— Верно, — выразительно кивнул Билл.
— Это могло бы быть энохи.
— Правда? То, что он искал?
— Очевидно, он нашел его. А что на это сказал Бэрфут?
— Тогда-то он, когда понял, и сказал мне, что я бодхисаттва. Я вернулся. То есть Тим вернулся из сострадания к другим. К тем, кого любит. К таким, как ты.
— И что Бэрфут собирается делать с этой новостью?
— Ничего.
— «Ничего», — повторила я, кивнув.
— Я не смогу ничего доказать, — пояснил Билл. — Скептикам. На это указал Эдгар.
— Почему не сможешь? Это ведь легко доказать. У тебя есть доступ ко всему что знал Тим. Как ты сказал — вся теология, подробности личной жизни. Факты. Кажется, доказать это — самое плевое дело на Земле.
— Я могу доказать это тебе? Даже тебе не могу. Это как вера в Бога: ты можешь знать Бога, знать, что он существует. Ты можешь чувствовать его, и все-таки ты никогда не докажешь, что чувствовала его.
— Теперь ты веришь в Бога?
— Конечно, — кивнул он.
— Полагаю, теперь ты веришь много во что.
— Из-за Тима во мне я знаю много чего. Это не просто вера. Это как… — Он страстно взмахнул руками. — Проглотить компьютер или всю «Британнику», целую библиотеку. Факты, идеи приходят и проносятся со свистом в моей голове. Они слишком быстрые… Вот в чем проблема. Я не понимаю их. Я не могу их запомнить. Я не могу их записать или объяснить другим людям. Это как будто в твоей голове двадцать четыре часа в сутки, без перерыва, вещает КПФА. Во многих отношениях это просто несчастье. Но это интересно.
Повеселись со своими мыслями, сказала я про себя. Это-то Гарри Стэк Салливан[101] и велел шизофреникам: они бесконечно забавляются своими мыслями и забывают о мире.
Мало что можно сказать, когда кто-нибудь выдает отчет, подобный отчету Билла Лундборга… если кто-то уже рассказывал нечто подобное прежде. Конечно, его рассказ походил на то, что Тим и Кирстен открыли мне (неподходящее слово) по возвращении из Англии после смерти Джеффа.
Но их откровение практически несравнимо с сообщением Билла. Оно, подумала я, заключается в предельной эскалации, в самом монументе. Тогдашнее же повествование было лишь меткой, указывающей на этот монумент.
Безумие, как маленькая рыба, собирается в стаи, в огромное количество случаев. Оно отнюдь не одиночное. Безумие не довольствуется малым, оно развертывается по всему ландшафту — ну, или по морскому ландшафту.
Да, подумала я: мы словно под водой — не во сне, как говорит Бэрфут, а в резервуаре, да еще за нами наблюдают, за нашим странным поведением и нашими еще более странными верованиями. Я — метафорическая наркоманка. Билл Лундборг — наркоман безумия, но он не может им насытиться: у него к нему безграничный аппетит, и он будет добывать его любыми возможными средствами. Даже если бы казалось, что безумие покинуло мир. Сначала смерть Джона Леннона, а теперь это. И для меня в один и тот же день.
Я не могла этого сказать, но все-таки он так правдоподобен. Потому что сам-то Билл не был правдоподобным. И это не правдоподобное дело. Вероятно, даже Эдгар Бэрфут признал, что… ну, как там суфий выражает подобную мокшу, что кто-то болен и нуждается в помощи, но трогательно обаятелен, простодушен и не собирается никому причинять вреда. Такое безумие происходит из боли, потери матери и того, кто почти наверняка означал отца в истинном смысле слова. Я чувствовала это. Я чувствую это. Я всегда буду это чувствовать, сколько буду жить. Но разрешение Билла не могло быть моим.
Его разрешением могло быть любое, которое не было моим, а мое было заведованием магазином пластинок. Мы должны найти собственное разрешение, и, в частности, мы должны разрешить тот род проблем, что создает смерть — создает для других. Но не только смерть — безумие тоже, безумие, ведущее к окончательной смерти как к своему конечному пункту, своей логической цели.
Когда мой первоначальный гнев на психоз Билла Лундборга улегся — а он действительно улегся, — я начала относиться к нему как к забавному. Полезность Билла Лундборга — не для него самого, а, как это виделось мне, для всех нас — заключалась в его привязанности к конкретному. Но он утратил это, без всяких сомнений. Его появление на семинаре Эдгара Бэрфута показало перемену в Билле. Парень, которого я знала, знала раньше, и носу не показал бы в подобной обстановке. Билл пошел путем всех нас, путем не телесным, он не умер, но нашего интеллекта — в бессмыслицу и безрассудство, чтобы зачахнуть там без следа чего-то искупительного.
Исключение составляет конечно же, то, что теперь Билл мог рассматривать череду смертей, обрушившуюся на нас, эмоционально. Было ли мое разрешение лучше? Я работала, читала, слушала музыку — я покупала музыку в виде пластинок. Я жила профессиональной жизнью и жаждала переехать в Южную Калифорнию, в отделение «Эй энд Ар» «Капитол Рекордз». Там простиралось мое будущее, там было материальное, каковым для меня стали грампластинки — не то, от чего можно получать удовольствие, но то, что сначала нужно купить, а затем продать.
То, что епископ вернулся с того света и теперь обитал в разуме или мозгу Билла Лундборга, — этого не могло быть по явственным причинам. Кто-то знает это интуитивно, кто-то даже не обсуждает, кто-то воспринимает как непреложный факт: этого не может произойти. Я могла выспрашивать у Билла целую вечность, пытаясь выявить в нем наличие фактов, известных только мне и Тиму, но это ни к чему бы не привело. Как и ужин, что был у меня с Тимом в китайском ресторане на Юниверсити-авеню в Беркли, все сведения стали сомнительными, потому что существует множество способов, которыми эти сведения могут появиться в человеческом разуме, способов более приемлемых и обьяснимых, нежели предположение, что некий человек умер в Израиле и его душа пролетела через полмира, пока не выделила Билла Лундборга из всех других жителей Соединенных Штатов и затем не нырнула в эту личность, в этот ждущий рассудок, и не устроилась там, искрясь идеями, мыслями, воспоминаниями и незрелыми представлениями — другими словами, епископом, каковым мы его знали, самим епископом, некой плазмой. Все это отнюдь не лежит в области реального. Где-нибудь в другом месте. Это плод воображения умопомешательства молодого человека, горевавшего над самоубийством своей матери и скоропостижной смертью человека, занимавшего место отца, горевавшего и пытавшегося понять. И вот однажды Биллу на ум пришла — не епископ Тимоти Арчер, но идея Тимоти Арчера, представление, что Тимоти Арчер находится там, в нем, духовно, призраком. Есть разница между представлением о чем-то и этим самим чем-то.
И все же, когда мой первоначальный гнев улегся, я испытывала сочувствие к Биллу, ибо понимала, почему он оказался в таком состоянии. Он хотел этого не из своенравия, дело заключалось, так сказать, не в добровольном безумии, но, скорее, в безумии, подчинившем его, навязавшемся насильственно, хотел он этого или нет. Это просто произошло.
Билл Лундборг, первый из нас обреченный на безумие, теперь стал последним из нас, обреченным на безумие. Единственный естественный вопрос наилучшим образом выражался так: можно ли с этим что-нибудь поделать? Что поднимает более серьезный вопрос: а следует ли что-нибудь делать с этим?
Я размышляла на протяжении двух следующих недель. У Билла (по его словам) не было близких друзей. Он жил один в арендуемой квартире в Ист-Окленде, питаясь в мексиканском кафе. Возможно, говорила я себе, я обязана перед Джеффом, Кирстен и Тимом — перед Тимом особенно — прочистить Биллу мозги. Тогда хоть кто-то уцелеет. Конечно же, не считая меня саму.
Несомненно, я уцелела. Но уцелела, как я осознала через некоторое время, как машина. И все же хоть как-то уцелела. По крайней мере, в мой разум не вторгся чуждый интеллект думающий на греческом, латыни и древнееврейском и пользующийся терминами, которые я не могу понять. Но мне нравился Билл, и мне не будет в тягость видеться с ним вновь, проводить с ним время. Билл и я вместе могли бы обращаться к людям, которых мы любили. Мы знали одних и тех же людей, и наши объединенные воспоминания принесли бы огромный урожай обстоятельных подробностей, крохотных частиц, что придают памяти некое подобие действительности… Или, выражаясь не так витиевато, мое общение с Биллом Лундборгом сделало бы для меня возможным вновь почувствовать Тима, Кирстен и Джеффа, потому что Билл, как и я, некогда чувствовал их и понял бы, о ком я говорю.
Как бы то ни было, мы оба посещали семинары Эдгара Бэрфута, и Билл и я встречались бы там, что бы ни случилось. Мое уважение к Бэрфуту выросло — из-за, конечно же, того личного интереса, что он питал ко мне. Это мне понравилось, это было мне нужно. А Бэрфут это почувствовал.
Я восприняла заявление Билла, что епископа влекло ко мне сексуально, как намек на то, что его самого влекло ко мне подобным образом. Я обдумала это и пришла к заключению, что Билл слишком молод для меня. Как бы то ни было, зачем увлекаться тем, кто классифицирован как гебефренический шизофреник? В качестве источника неприятностей мне вполне хватило и Хэмптона, проявлявшего признаки — и даже больше, чем признаки, — паранойи и гипомании,[102] и от него было трудновато избавиться. Хотя было еще не очевидно, что я от него избавилась. Хэмптон все еще названивал мне, агрессивно жалуясь, что, вышвырнув его из своего дома, я оставила у себя кое-какие пластинки, книги и журналы, которые на самом деле принадлежат ему.