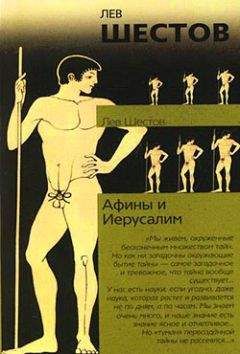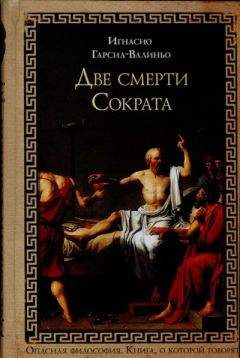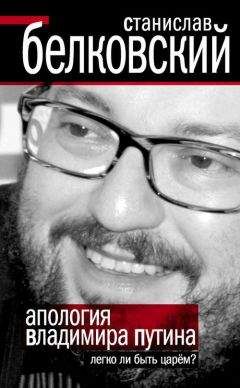Ознакомительная версия.
LX
Единое на потребу. Равняйте пути Господу! Как равнять? Соблюдать посты, праздники? Отдавать десятину или даже все имущество бедным? Умерщвлять свою плоть? Любить ближнего? Читать ночи напролет старые книги? Все это нужно, все это хорошо, конечно. Но не это главное. Главное научиться думать, что, если бы все люди, до последнего человека, были убеждены, что Бога нет, – это ровно ничего не значит. И, если бы можно было доказать как дважды два четыре, что Бога нет, – это тоже ничего не значило бы. Скажут, что такого нельзя требовать от человека. Конечно, нельзя! Но Бог всегда требует от нас невозможного, и в этом его главное отличие от людей. Или, может, наоборот – недаром ведь сказано, что человек создан по образу и подобию Божию, – не отличие, а сходство с человеком. Человек вспоминает о Боге, когда хочет невозможного. За возможным он обращается к людям.
Неуместные вопрошания. Я знаю, говорит бл. Августин, что такое время, но когда меня спрашивают, что такое время, я не умею ответить, и выходит, что я не знаю. И то, что Августин говорит о времени, можно о многом сказать. Есть разные вещи, о которых человек знает, пока его не начинают или он сам себя не начинает допрашивать: Знает человек, что такое свобода, но спросите его, что такое свобода, он запутается и не ответит вам. Знает он тоже, что такое душа, – но психологи, т. е. ученые, люди, особенно твердо убежденные, что спрашивать всегда полезно и уместно, дошли до того, что создали «психологию без души». Из этого бы следовало заключить, что наши методы разыскания истины не так уже безупречны, как мы привыкли думать, – и что иной раз неумение ответить на вопрос свидетельствует о знании, а нежелание спрашивать – о близости к истине: но такого заключения никто не делает. Это значило бы смертельно обидеть Сократа, Аристотеля, всех современных составителей книг «науки о логике», а с сильными мира, мертвыми и живыми, кому охота ссориться?
Еще о неуместных вопрошаниях. Среди бесчисленных априорных или самоочевидных истин, которыми, как все думают, держится, но в которых на самом деле запуталась человеческая мысль, наиболее прочно установилось положение, что вопросы задаются только для того, чтоб получить на них ответы. Когда я спрашиваю, который час, чему равна сумма углов в треугольнике, каков удельный вес ртути, справедлив ли Бог, свободна ли воля, бессмертна ли душа, я хочу – так ясно всякому, – чтобы мне на все эти вопросы дали точные ответы. Но вопрос вопросу – рознь. Кто спрашивает, который час или каков удельный вес ртути, тому точно нужно и достаточно, чтоб ему определенно ответили. Но кто спрашивает, справедлив ли Бог или бессмертна ли душа, тот хочет совсем другого – и ясные и отчетливые ответы приводят его в бешенство или отчаяние. Как это растолковать людям? Как объяснить им, что где-то, за какой-то чертой человеческая душа настолько перестраивается, что даже «механизм» мышления становится иным? Или, вернее сказать, что хоть мышление и сохраняется, но для механизма совсем не остается места.
Мораль рабов и господ. Сократ повиновался своему демону, и при нем был демон, который им распоряжался. Алкивиад же, хоть он и очень чтил Сократа, по-видимому, демона при себе не держал или если и держал, то не повиновался ему. Спрашивается, как быть философии, которая хочет установить «феномен» морали и описать его? Равняться по Сократу или по Алкивиаду? Если по Сократу, то присутствие демона и готовность беспрекословно исполнять все его веления будет считаться признаком нравственного совершенства и Алкивиад попадет в разряд безнравственных людей. Если по Алкивиаду – получится обратное: осудят Сократа. Вопрос, надеюсь, законный. Тоже надеюсь, что традиционной философии с ним никогда не справиться. Оттого она его и не ставит. Иными словами, прежде чем описывать феномен морали, она уже знает, и что такое мораль, и как ее описывать нужно. Но ведь может быть, что Алкивиада с Сократом никак не загонишь в одну категорию. «Non pari conditione creamur omnes: aliis vita aeterna, aliis damnatio aetema praeordinatur».[178] Сократу полагается (дано) идти на поводу у демона, Алкивиаду полагается (дано) вести демона за собой. Ницше был гораздо ближе к христианству, когда говорил о морали рабов, чем это казалось его обличителям.
Выбор. Появление человека на земле есть нечестивое дерзновение. – Бог создал человека по своему образу и подобию и, создавши, благословил его. Если вы примете (изберете) первое положение – вашей философской задачей будет катарзис, т. е. стремление выкорчевать из себя свою «самость». Основная проблема ваша будет проблема этическая, и онтология вами будет пониматься как нечто производное от этики: бытие окажется в границах мышления. Идеалом вашим будет царство разума, доступ к которому открыт всякому, кто готов пренебречь дарами Бога, видя, по примеру Гегеля, в них «насилие над духом». Если примете второе положение, плоды с дерева познания добра перестанут прельщать вас, вы будете рваться «по ту сторону добра и зла», вас вечно будет тревожить анамнезис (воспоминание) о том, что видел первый человек, ваш отдаленный предок, и торжественные гимны разума и разуму будут вам казаться скучными песнями земли, а его истины – стенами тюрьмы. Плотин стыдился своего тела, библейские люди стыдились и боялись своего разума. Есть все основания думать, что Ницше оттого отвернулся от современного христианства, что оно видело в разуме, как Спиноза, lucem divinam et donum maximum (божественный свет и величайший дар) и истолковало библейское сказание о грехопадении в том смысле, в каком грехопадение понималось эллинами. Я бы сказал то же и о Достоевском, но мне никто не поверит. Все убеждены, что Достоевский написал только несколько десятков страниц – об старце Зосиме, Алеше и те статьи в «Дневнике писателя», в которых он своими словами излагает мысли славянофилов, а «Записки из подполья», «Сон смешного человека», «Кроткая» и вообще девять десятых того, что напечатано в полном собрании его сочинений, написано не им, а каким-то «господином с ретроградной физиономией», и только для того, чтоб Достоевский мог должным образом возразить ему.
Оглядка. Наше мышление есть, по самому существу своему, оглядка – по-немецки Besinnung. Оно родилось из страха, что за нами, под нами, над нами есть что-то, что нам угрожает. И в самом деле, как только человек начинает оглядываться, он «видит» страшное, опасное, грозящее гибелью. Но если – согласятся сделать такое допущение? – страшное только тогда и тому страшно, кто оглядывается? Голова Медузы ничего не может сделать человеку, который идет вперед и не оглядывается, и превращает в камень всякого, кто повернется к ней лицом. Мыслить не оглядываясь, создать «логику» не оглядывающегося мышления – поймет ли когда-нибудь философия, поймут ли философы, что в этом первая и насущнейшая задача человека – путь к «единому на потребу»? Что инерция, закон инерции, лежащий в основе оглядывающегося мышления с его вечными страхами пред возможностью неожиданного, никогда не выведет нас из того полусонного, почти растительного существования, на которое мы обречены историей нашего духовного развития?
Комментарий к предыдущему. Еще за десять лет до опубликования «Критики чистого разума» Кант писал своему другу Герцу: «in der Bestimmung des Ursprungs und der Gültigkeit unserer Erkenntnisse Deus ex machina das Ungereimteste ist, was man nur waehlen kann, das ausser dem betrüglichen Zirkel in der Schlussreihe noch das Nachteilige hat, dass er jeder Grille oder andächtigem oder grüblerischem Himgespinst Vorschub gibt».[179] И еще: «Zu sagen, dass ein höheres Wesen in uns schon solche Begriffe und Grundsaetze (т. е., что Кант называет „синтетические суждения а priori“) weislich gelegt habe heisst alle Philosophie zugrunde richten».[180] И вся «критика чистого разума», все «мировоззрение» Канта покоится на этом фундаменте. Откуда взялась у Канта уверенность, что Deus ex machina или höheres Wesen есть самое нелепое допущение, принятие которого разрушило бы в самом основании философию? Кант, как известно, неоднократно сам повторял, что метафизические проблемы сводятся к проблемам Бога, бессмертия души и свободы. Но, после такой подготовки, что может философия сказать о Боге? Раз вперед известно, что Deus ex machina, он же das höheres Wesen, есть нелепейшее допущение, раз человек вперед «знает», что допустить вмешательство высшего существа в жизнь значит положить конец всякой философии, – метафизике уже больше и делать нечего. Ей уже вперед внушили, что Бог – а вслед за Богом и бессмертие души, и свободная воля есть произвольная выдумка и фантазия (Himgespinst und Grille), а стало быть, и сама метафизика есть тоже только чистейший произвол и фантазия. Но, опять спрошу, кто внушил Канту (а ведь Кант – это «все мы». Кант говорит за «всех нас») такую уверенность? Кого спросил он про Deus ex machina, т. е. про höheres Wesen? Ответ один: Кант философию понимал (тоже, как и все мы) как оглядку, как Besinnung. Оглядка же предполагает, что то, на что мы оглядываемся, имеет навеки неизменную структуру и что ни человеку, ни «высшему существу» не дано вырваться из власти не им и не для него заведенного «строя бытия». Каков бы ни оказался этот сам собой заведшийся порядок – он есть неизменно данное, которое нужно принять и с которым нельзя бороться. Самая идея борьбы Канту (и нам всем) кажется бессмысленной и недопустимой. Недопустимой не только потому, что мы заранее обречены на поражение, что такая борьба безнадежна, – но и еще потому, что она безнравственна, свидетельствует о возмущенности, мятежности, корыстности нашей (каприз, своеволие, фантазия – говорит Кант, которому, как и всем нам, внушено и потому доподлинно известно, что все это куда хуже, чем необходимость, покорность, закономерность). И действительно, стоит оглянуться, как сразу становится видным (интуиция), что нельзя и не должно бороться, что нужно покориться. «Вечный порядок», точно обвитая змеями голова Медузы, парализует не только человеческую волю, но и человеческий разум. И т. к. философия всегда была и поднесь продолжает быть «оглядкой», то все наши последние истины оказываются не освобождающими, а связывающими истинами. Философы много говорили о свободе, но почти никто из них не смел желать свободы и все искали необходимости, которая полагает конец всяким исканиям, ибо ни с чем не считается (ἠ ἀνάγκη ἀμετάπειστόν εἰναι – так формулировал Аристотель). Бороться с Медузой и ее змеями (аристотелевская ἀνάγκη, внушившая и ему, и Канту такой страх пред капризом и фантазией) может только тот, кто найдет в себе смелость идти вперед не оглядываясь. И, стало быть, философия должна быть не оглядкой, не Besinnung, как мы приучены думать, – оглядка есть конец всякой философии, – а дерзновенной готовностью идти вперед, ни с чем не считаясь и ни на что не оглядываясь. Оттого божественный Платон говорил: πάντα γὰρ τολμητέον – на все нужно дерзать, не боясь, прибавлял он, прослыть бесстыдным. Оттого и Плотин оставил нам завет: ἀγών μέγιστος καὶ ε̎σχατος ται̃ς ψυχαι̃ς πρόκειται – великая и последняя борьба предстоит душам. Философия есть не Besinnen, а борьба. И борьбе этой нет и не будет конца. Царство Божие, как сказано, берется силой.
Ознакомительная версия.