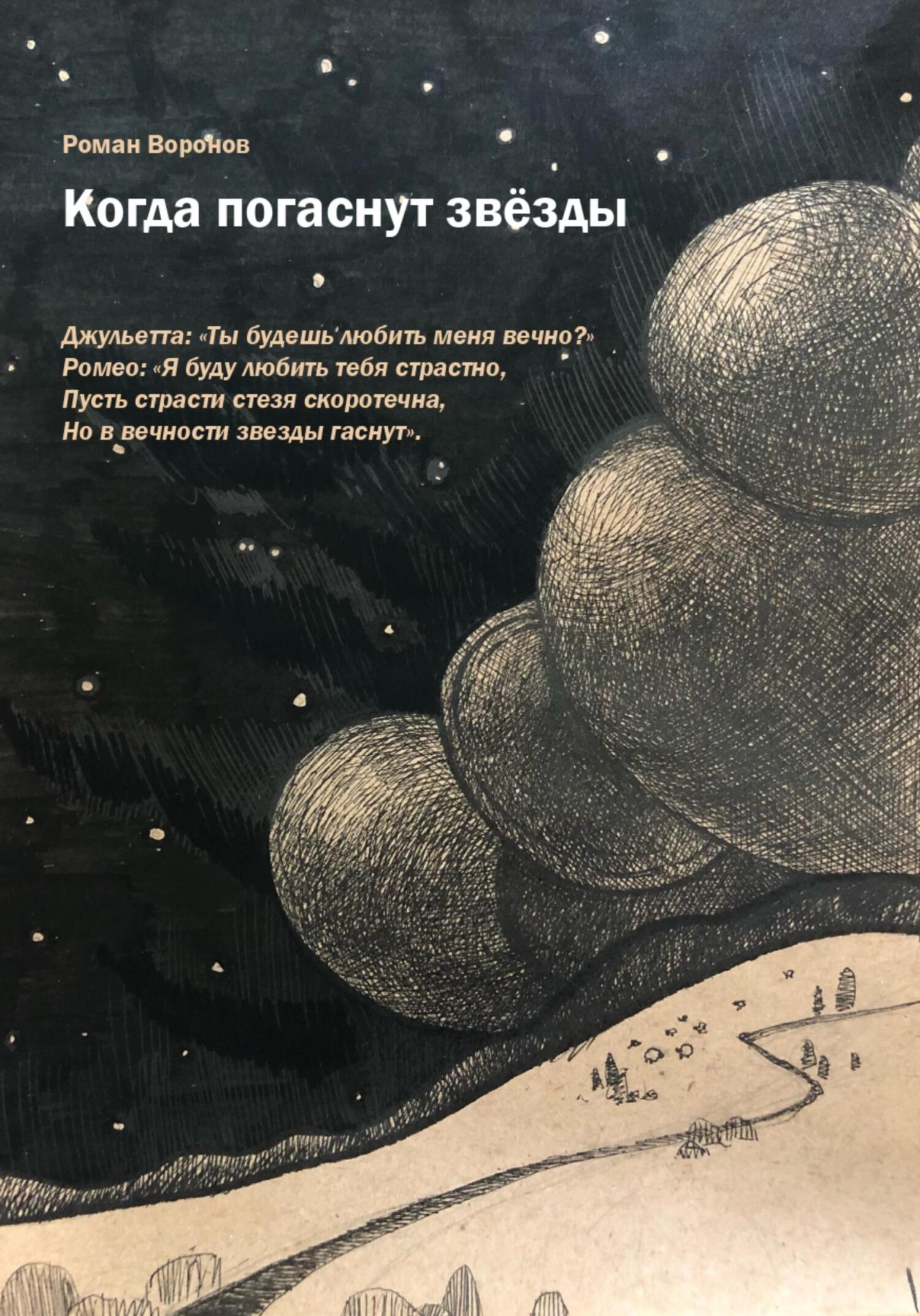вернулось ко мне, «враг» мой, умоляюще смотрел на флягу, прицепленную к поясу. Он умер у меня на коленях, напоенный кровью Христа из Грааля, в поисках которого мы встретились на стене Иерусалима. Так я сделал свой двенадцатый глоток.
Я не жалею, не жалей и ты.
Я не скорблю, так не скорби ты тоже.
Когда нещадно мял твои цветы,
Ты предлагал мне лечь в Прокруста ложе.
Я, было, собрался начать со слов «Я и Бог», но фраза запестрила неприкрытой самоуверенностью, и положение не спасало даже написание «я» строчной буквой, пришлось поменяться с Богом местами, вышло «Бог и я», но, внимательно взглянув и на эту сентенцию, я понял, что она звенит чрезмерной самонадеянностью, поэтому местоимение «я», как лишнее звено из цепи, пришлось убрать, остался Бог в одиночестве, хотя и противоречащем Его истинной природе, но как обычно.
Мир формируется странным, впрочем, возможно, и нет, но тогда совершенно необъяснимым образом. Человек помещает Бога в одиночество, отворачиваясь от него под грузом самобичевания, недоверия и собственного принижения пред величием Его, Бог же при этом желает видеть человека подле себя сильнее всего, так сильно, что преподносит дар, которого человек оказывается недостойным (здесь можно поспорить), – свободу выбора. Человек, со своей стороны, видит в этом даре ни к чему не обязывающую игрушку, увлекающую своей блестящей оберткой, таящей в недрах последствия от потребления, порой безудержного, заманчивых лакомств.
Появившийся на свет ребенок (в парадигме повествования – «Я») оказывается в «оркестре», да-да, оркестр, оснащенный инструментами и приобретенными умениями (необходимым потенциалом) есть воплощенные души, а зрительский зал, притихший и взирающий с восторгом или печалью на происходящее действо, – души на тонком плане. Вот здесь и возникает фигура Дирижера, не сам ли это Бог, но жесткое управление с помощью палочки не стыкуется с дарованной свободой выбора.
Но если Дирижер не Бог, тогда кто он? Кто уверенно занял место между темным залом, небесами и оркестровой ямой, сценой, грешной Землей и гармонизирует, создавая стройную картину мира, отдельных участников оркестра?
Творец вручил мне инструмент, побоюсь представить себя в качестве примы альтов, но на роль перкуссиониста вполне сгожусь, и создал условия, позволяющие освоить его и музыкальную грамоту, но дирижировать Сам не станет, Ему не нужна Его мелодия (тогда в чем смысл самопознания), Ему необходимо воссоздание своей симфонии свободными в смысле выбора музыкантами, Песнь песней, собранная из разделенных слов и нот силой Божественной любви.
В этом случае «видения» за дирижерским пюпитром занимает почетное место Закон Божий, прописанный в заповедях. Но Закон Божий, пропущенный через сознание человека, – узковатый регламент, чья бесконечная истина, обработанная конечным инструментом-мозгом, как скальпелем, преобразуется в жесткие и немногочисленные рамки, о которые свобода выбора, налетев, отскакивает, словно шарик, направляемый в нужное (узкое) русло. Кстати, вопрос: нужное кому?
Что-то все это не похоже на взаимоотношения меня, неразумного и любящего Бога, такое управление, дабы не скатиться на дно, скорее, требуется мне, но точно не Ему (снова спорное утверждение). Господь Бог – и музыканты, и зрители, и концертный зал, включая создаваемые совместными усилиями (инструменты, стены и овации публики) звуковые вибрации. А что есть Дирижер?
По завершении представления мы поменяемся местами, переодев плотные тела на светящиеся и наоборот, перемешаемся, не в толпе, но в качестве познающих и созерцающих, ведь музыкант, лихо исполнивший только что соло на трубе и сорвавший восторженные овации зала, через час заходит в ресторан и с не меньшим удовольствием вкушает мастерство шефа, отсидевшего на концерте в первом ряду. Они оба маэстро, а стало быть, меня и Бога тоже можно так назвать.
Значит ли то, раз Бог не взошел на дирижерский подиум, что мы, музыканты, не являемся Его «инструментами»? А если так и свобода выбора убирает подчиненность, тогда кто я Ему? Часть Его самого? И да, и нет. Я Сын Божий в смысле мерцания плоти Его в моей сути, в способности вернуться, воспарить, в наличии памяти о собственной первопричинности, в истинности утверждения «Я есмь Он», при условии моего желания соответствовать и терпеть это соответствие в физическом теле?
Может, друг Его? И да и нет. Я дружен с Ним, скорее, по той причине, что Он сам, прежде всего, считает Себя моим другом, хотя предаю Его всякий раз, когда приходит время жертвовать чем-то, так что дружба наша скорее похожа на отношения Христа и Иуды, чем на взаимную любовь к ближнему. Но вот что совершенно точно – я не слуга Ему, не младший брат, не подчиненность, не умаление, и да, при наличии свободы выбора, дара даров не инструмент.
Я достаю из, впрочем, вообще неважно, откуда я достаю зеркало, и, глядя через него на свой вопрос, вижу: а кто Он для меня? И вот здесь сознание, найдя опору в воображении, подводит меня к дверям храма. Сюда отправляются человеки в поисках Бога, словно Он, Вездесущий, предпочитает находиться исключительно в этом месте, сжавшись до размеров нефа и спрятавшись на всякий случай за иконостасом, чтобы, изредка выглянув от туда, посмотреть на хорошеньких прихожанок, да подивиться изобилию яств в монашеской трапезной и количеству запертой в дубовых бочонках Христовой крови на полках погребов.
Вот и я стою на ступенях в совершеннейшем смущении и трепетном ожидании, сейчас толкну тяжеленные дубовые на кованых петлях, сотни лет терпеливо делающих свою скрипучую работу, а там Он, мой Бог, светлый, добрый, любящий. Первый шаг к такому счастью всегда дается нелегко, мрамор под ногами стерт многими тысячами подобных мне, решивших оставить мир человеков и войти в мир Бога, будто миры эти различаются, и в одном властвует Грех, а в другом благоденствует истина. Вхожу обнадеженный, а Он и впрямь здесь, седовласый, восседающий на небесных подушках в окружении крылатых младенцев, но дотронуться, дотянуться до Него невозможно, непозволительно. И дело даже не в высоте купола или слабости ног моих, причина в Его ненастоящности. Бог, взирающий на меня со всей строгостью Его принципов из-под облаков, – всего лишь краска на штукатурке, Он не мой.
Я не могу обнять образ, а мне так хочется, я не могу понять образ, а мне так нужно, я не могу услышать голос Его, ведь все заглушают чужие, в мольбах и прошениях, я не могу возлюбить Его, ибо не люблю себя сам.
Вот и ответ, стало быть, загвоздка не в храме, не в стенах, исписанных ликами придуманными, уставленными каменными и восковыми фигурами, не существующими в истине, но