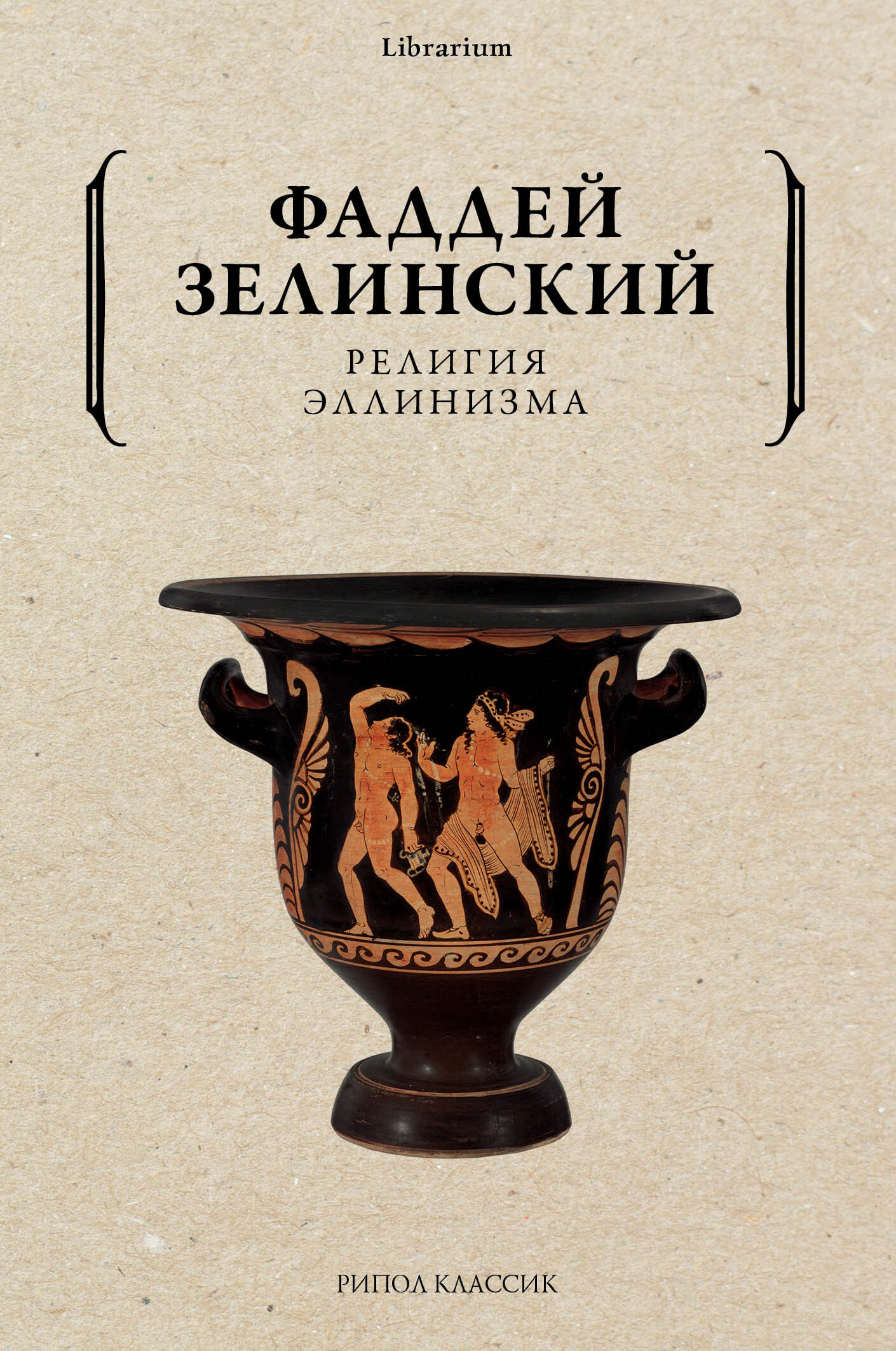что с астрономической точки зрения гелиоцентрическая система (Аристарха Самосского) представляется безупречной, возражения же против нее возможны только с точки Зрения физики (в античном смысле слова). Исходя же из шаровидности земли, он впервые, насколько нам известно, объявил возможным достижение Индии морем с запада: проблема Колумба совместилась с проблемой Коперника.
Таким гигантом мысли представляется нам в области чистой науки великий сакрализатор стоической философии: он поистине соединил в себе оба течения эллинизма как раннее, так и более позднее.
Это оправдывается также его отношением к истории. Она прежде всего в своей доисторической части была для него предметом спекуляции, приблизительно так же, как и для Платона, с которым он, как и подобало стоику, разделял мнение о периодических обогневениях и потопах и обусловленных ими возобновлениях культуры. Относясь доверчиво к преданиям старины, он ставит в начале нашего культурного периода золотой век, представляя дальнейшее развитие человечества – как его постепенное падение.
Но спекулятивное отношение к истории дополнялось у Посидония истинно научным: древность знала его также и как историка, притом как одного из самых крупных. Я имею здесь в виду его пространное сочинение, которому он дал, по-видимому, скромное заглавие «Продолжение Полибия» (ta meta Polybion).
Полибий довел свою историю до 144 г.: ее конец озарял зловещим светом пожар одновременно разрушенных торговых соперников Рима, Карфагена и Коринфа. Эти жертвы экономической политики Рима вопияли о мщении; мстителями явились насильственные реформаторы его экономического строя, Гракхи. Внешние удары один за другим обрушились на слишком самоуверенный город: кель-тиберийцы, кимвры, Югурта; но кровавые семена, брошенные Гракхами, взошли богатым урожаем в виде первой междоусобной войны между Марием и Суллой, и бесчеловечно угнетаемые рабы грозно зашевелились на родине плантационной системы, в Сицилии. Нависший над Римом меч готов был ежеминутно сорваться – а навис он действительно в виде десятивекового рока после разрушения родоначальницы-Трои; срок ему должен был наступить в 83 г. Да, Риму суждено было погибнуть; и преемник его величия уже был налицо, им был могучий царь Понта, Митридат Евпатор. Единственным спасителем и против внешнего, и против внутреннего врага был Сулла Счастливый: его диктатурой в 82 г. кончалось сочинение Посидония. Но этой диктатуре предшествовало взятие им Рима у марианцев в 83 г. и пожар Капитолия… Пожар Капитолия! Надо вчувствоваться в римскую душу, чтобы оценить значение этого события, в котором тогда видели первый удар, направленный против наследника древней Трои, предвестника грядущей его гибели. Пожар Карфагена и Коринфа там, ответный пожар Капитолия здесь – таковы были обе багровые зари, освещавшие начало и конец «истории» Посидония.
Если сравнить характер этого периода с характером предыдущего, описанного Полибием, с его Филиппами, Антиохами и Персеями, то можно будет сказать без преувеличения: как тот просился под перо почитателя прихотливой Тихи-Фортуны, так этот требовал себе в историки человека, признающего силу Рока. Было бы легкомысленно утверждать, что Посидоний выработал свою философию рока под влиянием исторических событий переживаемой им эпохи: они могли быть лишь одним из мотивов общей сакрализации, которой подчинился и он. Было бы, с другой стороны, неправильно ожидать, что он изобразит все это жуткое шестидесятилетие как сплошную и последовательную трагедию рока; такое безусловное подчинение разрозненного исторического материала центральной идее не было в духе античной историографии. Можно сделать ряд оговорок; и при всем том история под пером Посидония стала динамической философией умирающего эллинизма.
Вводит ли он, прежде всего, «машину богов» в свою историю, как можно было ожидать от ее сакрализатора? Ничуть не бывало. Конечно, люди суеверны, но историк выше их суеверия. Стоит прочесть, как язвительно он описывает хитрость Никия, использовавшего набожность энгийцев для своего побега, как он осмеивает мнение Эсхила о чудесном происхождении булыжников Камарги в дельте Роны, как он клеймит шарлатанов, путем мнимых заговоров сгущающих сирийскую нефть. Нет, от него до Кассия Диона еще далеко: он все-таки еще историк эллинизма. Но рок – это дело другое.
Одна из многих красот посидониева изложения заключалась в том, что он, вводя на сцену какого-нибудь нового врага Рима, описывал его историю и быт; этому хорошему правилу древний мир был обязан тем, что мог прочесть у него, задолго до Цезаря и Тацита, этнологию галлов и германцев, этнологию очень интересную, почерпнутую из собственных наблюдений. Этот же принцип заставил его в начале своего рассказа о невольнических войнах дать своим читателям связное изложение происхождения и развития рабства. Здесь спекуляция подавала руку эмпирии: золотой век, его вырождение, возникновение рабства, войны… Некоторые народы оказались неспособными к самоуправлению – им пришлось предоставить другим, более способным, управлять и собою и ими. Таково было естественное рабство; было, однако, и насильственное. В Греции первыми хиосцы силою подчинили себе свободных людей, превращая их в рабов. Но настало время – хиосцы были сами обращены в рабство Митридатом, были предоставлены своим собственным рабам для переселения в колхидскую землю. «Так, очевидно, разгневалось на них божество за то, что они первые воспользовались услугами купленных рабов, между тем как налицо были для службы им и свободные работники». Мы вынуждены по когтю судить о льве – от истории Посидония нам сохранились только отрывки. Что он говорил о гневе того же божества за пожар Карфагена и Коринфа, о десятивековом роке, нависшем над отпрыском Трои – об этом нам предоставляется только догадываться. Но случайность сохранила нам знаменательное место о Митридате, «которому оракул повсюду предсказывал владычество над вселенной» и не менее знаменательное о тревоге семикратного консула Мария, «об его ночных страхах и зловещих снах, причем ему все казалось, что он слышит чьи-то слова:
Грозно ведь даже и ложе далекого льва-душегуба.
Но так как он более всего боялся бессонницы, то он отдался бражничеству, опьяняя себя несвоевременно и в несвойственной его возрасту мере, стараясь всячески приворожить к себе сон, точно целебное средство от забот. И вот, наконец, когда к нему пришел вестник от моря, его обуяла новая тревога, отчасти от страха перед предстоящим ему, отчасти же и из досады и пресыщения настоящим. Прибавился незначительный повод – и он впал в тяжелую болезнь».
Тогда именно его посетил Посидоний как посол родосской республики.
Мы любовно вникаем теперь в эти отрывки, эти красивые клочки некогда прекрасной картины; их немного, но все-таки они подтверждают суждение Афинея, что «стоик Посидоний создал свою Историю достойно той философии, которую он исповедовал».
§ 45
Посидоний – не из тех, которых можно охватить одним несложным определением. Философ, ученый и историк, соединяющий философскую спекуляцию с трезвым научным наблюдением и строящий на обоих свою историю одной из самых захватывающих эпох в жизни человечества, он совмещает в себе борющиеся друг с другом силы эллинизма, секуляризационную и сакрализационную.