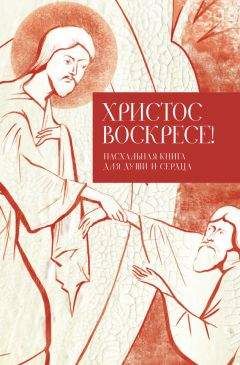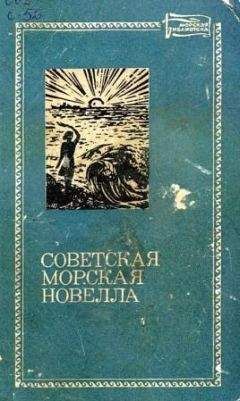Канун Пасхи
Утро Великой субботы запахло куличами. Когда мы еще спали, мать хлопотала у печки. В комнате прибрано к Пасхе: на окнах висели снеговые занавески, и на образе двунадесятых праздников с Воскресением Христовым в середине висело длинное, петушками вышитое полотенце. Было часов пять утра, и в ком нате стоял необыкновенной нежности янтарный свет, никогда не виданный мною. Почему-то представилось, что таким светом залито Царство Небесное… Из янтарного он постепенно превращался в золотистый, из золотистого в румяный, и наконец на киотах икон заструились солнечные жилки, похожие на соломинки.
Увидев меня проснувшимся, мать засуетилась:
– Сряжайся скорее! Буди отца. Скоро заблаговестят к Спасову погребению!
Никогда в жизни я не видел еще такого великолепного чуда, как восход солнца!
Я спросил отца, шагая с ним рядом по гулкой и свежей улице:
– Почему люди спят, когда рань так хороша?
Отец ничего не ответил, а только вздохнул. Глядя на это утро, мне захотелось никогда не отрываться от земли, а жить на ней вечно – сто, двести, триста лет, и чтобы обязательно столько жили и мои родители. А если доведется умереть, чтобы и там, на полях Господних, тоже не разлучаться, а быть рядышком друг с другом, смотреть с синей высоты на нашу маленькую землю, где прошла наша жизнь, и вспоминать ее.
– Тять! На том свете мы все вместе будем?
Не желая, по-видимому, огорчать меня, отец не ответил прямо, а обиняком (причем крепко взял меня за руку):
– Много будешь знать, скоро состаришься! – А про себя прошептал со вздохом: «Расстанная наша жизнь!»
Над Гробом Христа совершалась необыкновенная заупокойная служба. Два священника читали поочередно «непорочны», в дивных словах оплакивавшие Господню смерть:
– «Иисусе, спасительный Свете, во гробе темном скрылся еси: о несказаннаго и неизреченнаго терпения!»
«Под землею скрылся еси, яко солнце ныне, и нощию смертною покровен был еси, но возсияй, Светлейше Спасе».
Совершали каждение, отпевали почившего Господа и опять читали «непорочны»:
– «Зашел еси Светотворче, и с Тобою зайде свет солнца».
«В одежду поругания, Украситель всех, облекавши, Иже небо утверди и землю украси чудно!»
С клироса вышли певчие. Встали полукругом около Плащаницы и после возгласа священника «Слава Тебе, показавшему нам свет» запели великое славословие – «Слава в вышних Богу»…
Солнце уже совсем распахнулось от утренних одеяний и засияло во всем своем диве. Какая-то всполошная птица ударилась клювом об оконное стекло, и с крыш побежали бусинки от ночного снега.
При пении похоронного, «с завоем», – «Святый Боже», при зажженных свечах стали обносить Плащаницу вокруг церкви, и в это время перезванивали колокола.
На улице ни ветерка, ни шума, земля мягкая, – скоро она совсем пропитается солнцем…
Когда вошли в церковь, то все пахли свежими яблоками.
Я услышал, как кто-то шепнул другому:
– Семиградский будет читать!
Спившийся псаломщик Валентин Семиградский, обитатель ночлежного дома, славился редким «таланом» потрясать слушателей чтением паремий и Апостола. В большие церковные дни он нанимался купцами за три рубля читать в церкви. В длинном, похожем на подрясник, сюртуке Семиградский, с большою книгою в дрожащих руках, подошел к Плащанице. Всегда темное лицо его, с тяжелым мохнатым взглядом, сейчас было вдохновенным и светлым.
Широким, крепким раскатом он провозгласил:
– «Пророчества Иезекиилева чтение…»
С волнением и чуть ли не со страхом читал он мощным своим голосом о том, как пророк Иезекииль видел большое поле, усеянное костями человеческими и как он в тоске спрашивал Бога: «Сыне Человеч! Оживут ли кости сии?» И очам пророка представилось – как зашевелились мертвые кости, облеклись живою плотью и… встал перед ним «велик собор» восставших из гробов…
С погребения Христа возвращались со свечками. Этим огоньком мать затепляла «на помин» усопших сродников лампаду перед родительским благословением Казанской Божией Матери. В доме горело уже два огня. Третью лампаду – самую большую и красивую, из красного стекла, – мы затеплим перед пасхальной заутреней.
– Если не устал, – сказала мать, приготовляя творожную пасху («Ах, поскорее бы разговенье!» – подумал я, глядя на сладкий соблазный творог), – то сходи сегодня и к обедне. Будет редкостная служба! Когда вырастешь, то такую службу поминать будешь!
На столе лежали душистые куличи с розовыми бумажными цветами, красные яйца и разбросанные прутики вербы. Все это освещалось солнцем, и до того стало весело мне, что я запел:
– Завтра Пасха! Пасха Господня!
Светлая заутреня
Над землей догорала сегодняшняя литургийная песнь. «Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом».
Вечерняя земля затихала. Дома открывали стеклянные дверцы икон. Я спросил отца:
– Это для чего?
– Это знак того, что на Пасху двери райские отверзаются!
До начала заутрени мы с отцом хотели выспаться, но не могли. Лежали на постели рядом, и он рассказывал, как ему мальчиком пришлось встречать Пасху в Москве.
– Московская Пасха, сынок, могучая! Кто раз повидал ее, тот до гроба поминать будет. Грохнет это в полночь первый удар колокола с Ивана Великого, так словно небо со звездами упадет на землю! А в колоколе-то, сынок, шесть тысяч пудов, и для раскачивания языка требовалось двенадцать человек! Первый удар подгоняли к бою часов на Спасской башне…
Отец приподнимается с постели и говорит о Москве с дрожью в голосе:
– Да… часы на Спасской башне… Пробьют, – и сразу же взвивается к небу ракета… а за ней пальба из старых орудий на Тайницкой башне – сто один выстрел!..
Морем стелется по Москве Иван Великий, а остальные сорок сороков вторят ему как реки в половодье! Такая, скажу тебе, сила плывет над Первопрестольной, что ты словно не ходишь, а на волнах качаешься маленькой щепкой! Могучая ночь, грому Господню подобная! Эй, сынок, не живописать словами пасхальную