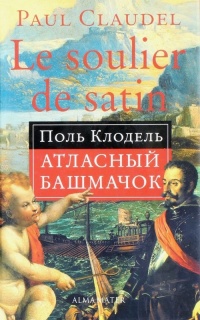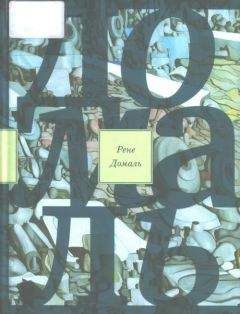когда присутствие актера кажется слишком материальным, можно прибегнуть к технике кино” [105].
“Атласный башмачок” сам Клодель считал итогом, вершиной своего творчества.
Написанный в Токио под впечатлением представлений японского “Но”, “Атласный башмачок” представляется как отражение всей истории европейского театра, обогащенной опытом театра восточного [106]. Многим он видится увеличенной в размерах драмой “Но”: речь идет и о содержании, и о музыкальном сопровождении (см. сноску к последней сцене Четвертого Дня), и о заимствовании образов, например фигура Двойной Тени. Другие назовут “Атласный башмачок” “Божественной комедией” новых времен и тоже будут по–своему правы: разве сквозь перипетии судьбы, возносящей Пруэз в венец вечного звездного неба, не мерцает нам образ путеводной возлюбленной флорентийского поэта? Третьи, несомненно, расслышат сквозь какофонию звуков и тем мелодию Вагнера. Да что там говорить: “сцена этой драмы — весь мир”, как значится в первой авторской ремарке “Атласного башмачка”. Жанр пьесы обозначен как “испанское действо в Четырех Днях”, вызывающее ассоциацию с “ауто сакраментале” Кальдерона: так же, как в барочной драме, в действие на равных включаются Святые и Ангелы.
“Оригинальность моей драмы, — писал сам Клодель, — в сложности структуры. Это форма Кальдерона и Шекспира, которая меня так всегда восхищала”. Действительно, он порывает в “Атласном башмачке” не только с традиционным для французского театра единством времени и места, но, подобно Шекспиру, разрывает единство действия: в пьесе есть несколько параллельных сюжетов, развивающихся одновременно, которые, чередуясь, пересекаются только на уровне ассоциативном. (Так, например, история невозможной страсти Родриго и Пруэз сопровождается счастливыми двойниками и чудесным торжеством земной любви —Донья Музыка и Вице–король Неаполя, Диего Родригес и Донья Острожезилья). Сложное сцепление постоянно меняющихся, контрастных эпизодов, так же как несколько параллельно развивающихся сюжетов, Клодель считал условием подлинной сценичности, секретом которой владели “эти старые англосаксонские драматурги”. Более того, вопреки французской традиции, автор в “Атласном башмачке” смешивает не только страны и эпохи, но и жанры: высокую расиновскую трагедию [107] и грубый мольеровский фарс, как если бы трагедию играли посреди веселой, разнузданной карнавальной толпы.
Он, кажется, преднамеренно выступает здесь против картезианской эстетики упорядоченности и культа разума, противопоставляя им свою эстетику беспорядка, то есть воображения, отражающего жизнь во всей ее полноте. В этом ощущении полноты бытия органическое ощущение человека верующего, которое и составляет одну из особенностей поэтики Клоделя. “Именно потому, что весь тварный мир несовершенен и во многом сущем есть изъян, некая природная пустота, он дышит, живет, обменивается, нуждается в Боге и других созданиях и подвластен поэзии и любви, сочетающей их [108].
В этой пьесе Клодель не только подводит итог своей драматургии, но и полностью раскрывает свое понимание театра как Вселенной сцены. “Атласный башмачок” — это гимн театру, его бесконечным возможностям, единственному способу все рассказать о жизни, месту, где человек на несколько часов может почувствовать себя богом. И наоборот: Всевышнего Клодель сравнивает с режиссером, а жизнь человеческую уподобляет большой драме, разыгрываемой у него на глазах.
Театр по Клоделю — это иллюзия, создаваемая на глазах у зрителя. Однако принцип построения театральной иллюзии, подобно Пиранделло и Брехту, он мыслит как разрушение иллюзии жизнеподобия. Ибо театр — это прежде всего игра, и Клодель очень любил эту его двойственную природу и хотел, чтобы зрители не только следили за развитием сюжета, но и наслаждались самой театральностью. Подчеркивая условное, игровое начало, Клодель стремится взбудоражить фантазию зрителя, чтобы потом с еще большей силой вовлечь его в чудесный мир испанского действа. Ведь “Атласный башмачок” — еще и одна из самых прекрасных любовных историй, которую знает мировая драматургия. Мистерия о запретной любви конкистадора Родриго де Манакора и прекрасной доньи Пруэз разыгрывается на море, на суше и в небесах в течение четверти века — весь мир, вся вселенная становятся участниками любовной драмы. Здесь угадывается и миф о роковой любви Тристана и Изольды, и, по признанию самого драматурга, “древняя китайская легенда о двух влюбленных — звездах, которые каждый год после долгих странствий наконец встречаются, но никогда не могут соединиться, ибо находятся по разные стороны Млечного пути. Так вот и Родриго и Пруэз разделены высшей властью, которую древние называли Роком…» [109].
Вопрос о таинстве любви был на протяжении 10 лет после “Полуденного раздела” постоянной темой творчества Клоделя. И опять в “Атласном башмачке” он как бы подводит итог, поэтический и философский. Страсть предстает как необходимость, навязанная и желанная Богом и одновременно запретная, греховная. Герою Клоделя нужен этот опыт любви, подобной раскаленному мечу, что “пронзает душу”, чтобы понять самого себя и осуществить свою судьбу, и в высшей перспективе освободиться от тяжести материального мира. Именно как преддверие такого освобождения следует вероятно читать буффонный и абсолютно фантазийный Четвертый День, весь проходящий на воде. “Даже грехи служат” [110]: любовь — страсть в мире Клоделя становится одним из путей к Благодати, женщина — приманка в руках Провидения, тайный зов к миру иному через обманчивые обольщения любви. Земная трагедия героев — лишь эпизод в грандиозной драме мироздания, где их душам суждено пребывать в вечном единстве?
“Избавление плененных душ” — эта последняя фраза “Атласного башмачка” звучит как триумфальное освобождение, высший момент радости. Вся пьеса и есть, в сущности, прославление радости, приятие всего Творения в надежде увидеть за ним Творца.
Несмотря на все комментарии, а их написано великое множество, пьеса Клоделя продолжает притягивать мерцанием неисчерпаемых смыслов, сохраняя способность в разные периоды жизни открываться нам по–новому. И в разные эпохи тоже. Наша — мондиализации, рождения нового мира без границ, неожиданно в новом свете освещает и выводит на первый план столь дорогую Клоделю, и поэту, и дипломату, утопию единения человечества, его размышления о том, что все люди между собой связаны, и нет ни одного события в любой точке земного шара, которое не отозвалось бы тем или иным образом в каждом из нас.
Екатерина Богопольская
Со дня своего обращения во время пения Magnificat, Песни Пресвятой Богородицы “Величит душа Моя Господа” [111] в соборе Парижской Богоматери на Рождество 1886 года Клодель сохранил и перенес в свое творчество поклонение женщине–спасительнице. Как он сформулирует это уже на закате жизни: “Для меня женщина всегда представляет четыре ипостаси: либо человеческую душу, либо Церковь, либо Пресвятую Богородицу, либо Премудрость Божью. Нет ни одной женской фигуры во всем моем творчестве, которая не обладала бы какими–то чертами Премудрости”.
“Атласный башмачок” — главное тому подтверждение. Но и в ранних произведениях Клоделя можно найти зачатки того совершенного женского образа, который воплотится в донье Пруэз. Уже в его первой драме