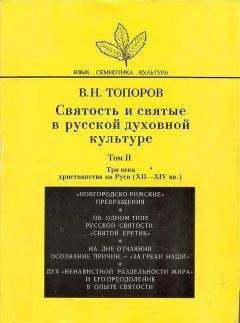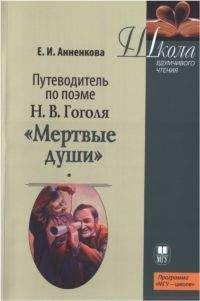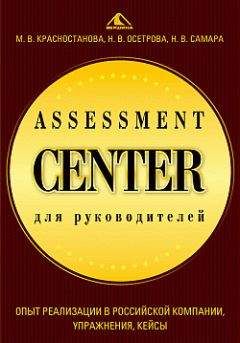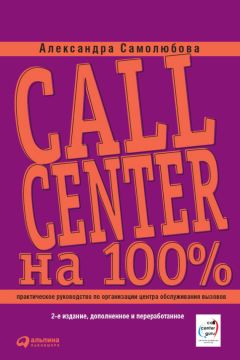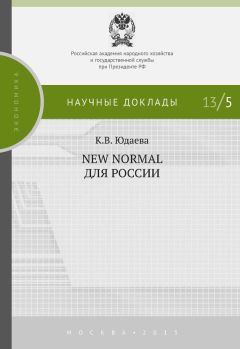Ознакомительная версия.
419
Трудно не согласиться с мнением (Концевич 1993, 97), что «если бы св. Алексий держался в вопросе паламизма нейтральной позиции, то не могло бы образоваться столь тесного сближения с Патриархом. Только единомыслие могло их сблизить». А в этом единомыслии Филофей мог убедиться при личном знакомстве с Алексием. Впечатления патриарха были самые благоприятные, и с этих пор начинается его покровительство ему и, видимо, некоторая переоценка соотношения церковных сил на Руси и изменение взгляда относительно того, на кого нужно опираться на Руси в первую очередь. В этом плане характерно изменение позиции Филофея, о чем см. Макарий 1866, т. 4, 39, 42–46; Концевич 1993, 98. Незадолго до прибытия Алексия в Константинополь или даже сразу же после его прибытия туда же прибывает посольство из Новгорода (последовательность событий согласно Новгородской летописи: 1354 — послание Моисея, 1355 — возвращение Алексия на Русь) с жалобой на недавно скончавшегося митрополита Феогноста, почему–то не захотевшего дать архиепископу Новгородскому Моисею «крещатых риз», которые, однако, были даны предшественнику Моисея. На эту жалобу патриарх Филофей откликнулся благоприятным для Моисея посланием и удовлетворением жалобы. Новгородская первая летопись младшего извода по Комиссионному списку сообщает об этом восстановлении справедливости так:
Того же лета приидоша послове архиепископа новгородчкого Моисиа изъ Цесаряграда, и привезоша ему ризы крестьцаты, и грамоты с великымъ пожалованием от цесаря и от патриарха, и златую печать. Бе же тогда цесарь гричкыи Иванъ Кантакузинъ, а патриархъ Филофеи, преже бывыи ираклиискымъ митрополитомъ
(Новгор. летоп. 1950, 364).
Но следующее послание Филофея к архиепископу Новгородскому, после того как Филофей ближе узнал Алексия и, видимо, его «единомыслие» с ним, выдержано в существенно ином тоне. Патриарх жестко ставит всё на свои места. После настоятельного приглашения к новгородскому владыке оказывать новому митрополиту беспрекословное и полное повиновение он указывает ему, что тот может обращаться в патриархию только с ведома и согласия Алексия (оговаривается единственное исключение — случай, если бы Алексий отнял у Моисея посланные ему Филофеем «крещатые ризы»). И в заключение — строгое предупреждение: «И не найдешь от нас совершенно никакой помощи, если, паче чаяния, явишься непослушным и непокорным к утвержденному митрополиту твоему».
Позже, когда новый владыка Новгородский Алексий проявил своеволие и непокорство, Филофей лишил его такой важной привилегии, как крещатые ризы, и, более того, угрожал ему лишением сана (1370 г.). Весьма показательна и та характеристика, которую в том же году в грамоте русским князьям дает патриарх Филофей:
А посему, так как и вы имеете там вместо меня святейшего митрополита Киевского и всея Руси, мужа честного, благочестивого, добродетельного и украшенного всеми добрыми качествами, способного, по благодати Христовой, пасти народ, руководить его к приобретению спасения, утешать скорбные души и утверждать колеблющиеся сердца, как и вы сами знаете, изведав его достоинства и святость, то вы обязаны оказывать ему великую честь и благопокорность
(см. Концевич 1993, 98).
Не менее поучительно в этом отношении и послание Филофея к Димитрию, князю Московскому:
[…] Ибо я, как общий, свыше от Бога поставленный отец для христиан, находящихся по всей земле, по долгу своему, обязан и всегда стараюсь и забочусь о их спасении и молю за них Бога. Преимущественно же сие исполняю в отношении к вам потому, что среди вас именно обретаю народ Христов, который имеет в себе страх Божий, любовь и веру. Молюсь и люблю всех вас, повторяю, более других. Твое же благородство еще более люблю и молюсь за тебя, как за сына своего, за любовь и дружбу к нашей мерности, истинную веру во Святую Церковь Божию и искреннюю любовь и покорность к святейшему митрополиту Киевскому и всея Руси, возлюбленному во Святом Духе брату нашей мерности. Я знаю, что ты искренне расположен к нему, любишь его и оказываешь ему совершенную покорность и повиновение, как он сам писал ко мне, и тем более я возлюбил тебя и молюся о тебе. Поступай же, сын мой, точно так и вперед, дабы иметь молитву мою и на будущее время, и будешь иметь еще большие блага: и жизнь беспечную и царство несокрушимое в настоящей жизни, а в будущей наслаждение вечными благами.
Внимательное прочтение этого отрывка из послания Филофея свидетельствует с бесспорностью, сколь многое в нем из тех добрых слов, сказанных патриархом Димитрию, объясняется добрым отношением к митрополиту Алексию и надеждой, разделяемой и Филофеем, и Алексием, на «государственно–церковную» симфонию, на то согласие, которое должно быть (и, увы, так редко случается) между христианским (не только по имени) государством и христианской Церковью, помнящей прежде всего о Христе, о духовном окормлении народа, этого «христианского стада», который одновременно составляет и гражданство христианского государства. И если «государственно–церковная» симфония в эти годы лишь была чаемой и надежды на ее осуществление казались немалыми, то «симфония» между Церковью на Руси и Вселенской Церковью была, как никогда, полной. Стоит еще раз вчитаться в личное послание патриарха Филофея митрополиту Алексию: оно говорит о многом —
Ты знаешь сам и притом хорошо любовь и благорасположение, которые питаю к священству твоему: я питаю к тебе любовь особенную и полное сочувствие, крепко люблю тебя и имею как близкого друга, и весьма желаю, чтобы ты писал, да знаем о тебе, о месте твоем, об управлении и великом стаде твоем. Знаю и вполне уверен, что и ты любишь меня и питаешь дружбу к нашей мерности. И если в чем нуждаешься, пиши о том с полной уверенностью, что я исполню.
(Макарий 1866, 32–63, 324–333; Концевич 1993, 99).
Такие послания не пишутся патриархами только из вежливости и только потому, что адресат — хороший человек и пишущий привязан к нему: они безусловно свидетельствуют — тем более в такой горячий и ответственнейший период в религиозной и государственной жизни Византии — о полном согласии в выборе того направления в христианском богословствовании, каким было учение Григория Паламы, исихазм в его паламитском понимании.
В этом отношении исключением был митрополит Алексий: есть намеки на то, что в первой половине своей жизни среди других иноческих подвигов было и молчальничество; вместе с тем Алексий был автором нескольких текстов (поучительное послание, грамота и т. п.).
Иное положение со знакомством с трудами Григория Паламы русских авторов второй половины XIX — начала XX вв. На этот факт обращает внимание Мейендорф 1997, 224, 327 (Послесловие), подчеркивая, что наличие существенных трудов, посвященных византийской исихастской традиции в России, опровергает мнение Jugie 1933, согласно которому православные забыли о Григории Паламе. Впрочем, несмотря на сохранение церковной службы св. Григорию Паламе, тексты его действительно на Руси знали далеко не полностью, и это знакомство с тем, что было все–таки известно, не получило сколько–нибудь адекватного отражения. Сам Мейендорф 1997 лишь отчасти может дополнить прежних авторов, писавших на эту тему, пытаясь восстановить христологический и библейский контекст учения Паламы. Ср. Stäniolae 1938; Сырку 1890, 55–140, 167–219; Яцимирский 1908, 507–517, 661–672; Кривошеин 1936; Лосский 1991 и др.
Имея в виду современную читательскую аудиторию, с одной стороны, и отрицательное (или индифферентное) отношение к аскетизму, понимаемому как «чистая» техника, позволяющая уходить от решения «общественных» проблем сего дня, как со стороны материализма, позитивизма или индифферентизма, так и со стороны некоторых властителей дум (как, например, Ницше), с другой стороны, нужно предостеречь от крайностей в понимании такого явления, как аскетизм, и от очевидных ошибок и упрощений в его трактовке. Об этом не раз предупреждали крупнейшие исследователи аскетизма, в частности, и такие, которых нельзя упрекнуть в глухости к социальному аспекту христианства. Один из них писал в начале века:
«Традиционный аскетизм» иногда даже и у богословов решительно противополагается христианской любви как начало ей совершенно чуждое, с нею решительно не совместимое. Считают необходимым категорически констатировать, что «наше время внимательно не к тому, что совершается за монастырскою стеной, в уединении пустыни, в затворе аскета, а к тому, что дает христианство для всех сторон действительной жизни, для экономических нужд, для социальных потребностей, для трудовых общин, для братского общежития» [scil. — Тареев 1905, 660. — В. Т.]. В современное христианское сознание всё более и более проникает убеждение, что задачей христианства является спасение не только лично–индивидуальное, но и общественно–социальное, торжество царствия Божия не только в личной жизни, но и общественных и социальных отношениях. Современная жизнь настойчиво выдвигает вопросы о путях и средствах созидания христианской общественности, в связи с вопросами об отношении христианства к земной жизни человечества, его культурно–историческому творчеству. Христиане, и в особенности христианские пастыри, приглашаются осуществлять заповеди практической любви, предписанные христианством, к выполнению задач так называемой «христианской общественности». При этом аскетизм как начало спасения будто бы исключительно индивидуального рассматривается в качестве фактора, отрицательно относящегося к осуществлению спасения общественного. Представителей церкви упрекают в том, что они в христианстве видят и понимают один только загробный идеал, оставляя земную сторону жизни, весь круг социально–общественных отношений без воплощения христианской истины. Констатируют ненормальность постановки пастырства на аскетическую почву. Считают бесспорным, что «перерабатывать самую жизнь, христианизировать ее во всех ее проявлениях» пастырь–аскет отказывается из–за страха «оскверниться» «прикосновением с нею». Зло во внешнем мире разрослось до такой степени именно «благодаря бездействию аскетов–пастырей и их попустительству». Утверждают, что для христианства наступила пора на деле показать, что в церкви заключается не один лишь загробный идеал. Настойчиво провозглашают, что церковь в противоположность интеллигентному обществу поняла и приняла сознательно будто бы лишь заповедь о любви к Богу, сосредоточила все свое внимание лишь на аскетической стороне учения Христова, но пренебрегла Божиим миром, исполнением заповеди о любви к ближним. Вообще христианство должно не отрицать земную жизнь и культуру, как это было будто бы доселе, а сообщать им религиозное освящение. Как бы ни относиться к указанным убеждениям и взглядам, игнорировать их невозможно; с ними следует считаться и считаться серьезно, так как они составляют догмат веры почти всей нашей так называемой интеллигенции и последовательно и широко распространяются в обществе.
Ознакомительная версия.