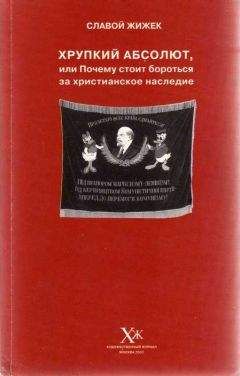Славой Жижек.
Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Виктор Мазин
ЖИЖЕК И ЕГО ДРУГИЕ
Основная цель этого предисловия — прояснить принципиально важные понятия Славоя Жижека, точнее, даже не столько его понятия, столько перевод на русский язык используемых им английских вариантов французских понятий Жака Лакана. Впрочем, странно было бы начинать с такого рода смещения в сторону другого мыслителя, и потому мы начнем с рассмотрения не методологически–концептуального аппарата, но с той проблематики, которая занимает Жижека, в том числе и в этой его книге.
Одним из магистральных вопросов, волнующих Жижека, является вопрос становления субъекта, становления субъектом и тех условий, в которых это становление происходит. Вопрос этот пронизывает практически все его многочисленные книги и статьи. Данная книга продолжает анализ тех условий, в рамках которых человек пребывает сегодня. Условия эти связаны, в частности, с исчезновением стран реального социализма и капиталистической глобализацией. Этот на первый взгляд политэкономический вопрос касается не только возможностей так называемой постистории, постидеологии, но по сути дела является еще и вопросом субъективации человека, рождающегося в этих самых условиях. Потому и оказывается здесь возможным и даже неизбежным психоаналитический, а не только политэкономический подход. Потому неудивительно, что основные метрологические инструменты предоставлены Жижеку Марксом и Лаканом. Потому неизбежно возникают и связанные с анализом идеологии (и) субъекта Фрейд, Альтюссер, Святой Павел…
Конспективно отметим некоторые из тех переплетающихся между собой условий, которые расследует Жижек.
Мы пребываем в условиях, в которых политический диктат сменяется диктатом экономическим. Последний при этом как бы исчезает из поля зрения критики. Левые в политике отказываются от политэкономического анализа, заменяя его анализом культуры, этноса, идентичности, поскольку основные свободы как будто уже завоеваны, мечты как бы сбылись и остается лишь задним числом их анализировать. Лучше даже и не думать о революционных преобразованиях. Однако для Жижека либерально–демократический капитализм отнюдь «не является крайним горизонтом политического воображения», и существует настоятельная необходимость «заново политизировать экономику» [17:X], в которой и происходят настоящие революционные преобразования. При таком подходе понятно, почему именно Маркс становится столь важной фигурой для критического запала Жижека. Кроме того, кризис левого дискурса, которому в сложившихся условиях как будто нет места, ставит перед выбором — «либерализм против тоталитаризма». Оппозиция эта практически не оставляет никакого выбора, поскольку тоталитаризм априори считается злом, и Жижек усматривает здесь своего рода запрет на мысль [Denkverbot]. Невозможность радикального выбора, предписанность выбора оборачивается запретом на мысль. Любая радикальная, революционная идея воспринимается в так называемом либерально–демократическом обществе как опасная, «ибо она грозит воскресить призрак "тоталитаризма"» [10:7]. Призраками и полнится идеологический мир человека. С появления этих самых призраков начинается книга Жижека. В частности, с нового явления призраков расизма, явления, предсказанного Лаканом. Вытесненное возвращается. Возвращается в ином, отрефлексированном виде.
Мы пребываем в условиях, в которых господствует рефлексия, с этой особенности и начинается первая глава книги. Рефлексивная модернизация [21], рефлексивное общество предполагают не только опосредованность любого акта, будь то поступок или высказывание, но и то, что все «формы людского взаимодействия, от сексуального партнерства до этнической идентичности, приходится изобретать и устанавливать заново» [10:7]. В рамках либерального мультикультурализма, в частности, действует не обычный неприкрытый расизм, но расизм отрефлексированный. Вообще рефлексия затрагивает самые различные аспекты жизни, включая и саму рефлексию, включая и психоанализ: рефлексивный пациент уже вписывает в свое психическое пространство ту или иную форму толкования собственной симптоматики [3]. Субъект как будто выбирает себе из стандартного набора ту или иную форму поведения, тот или иной симптом. Он выбирает. Он свободен в своем выборе. Его выбирают. Он свободен для выбора.
Мы пребываем в условиях, где важнейшим аспектом пропаганды является «свобода», в первую очередь свобода выбора как основа либеральной идеологии. Эта история хорошо известна, но далеко не всем. Известна она тем, кто ее пережил. Впрочем, «известна» не значит осмыслена, «известна» не значит осознана. О какой истории речь? — Об известной истории выбора: «Когда около 1990 г. в странах Восточной Европы реальный социализм стал разрушаться, люди были разом и вдруг брошены в ситуацию «свободы политического выбора» — однако разве их спрашивали, в каком новом обществе они хотели бы жить? <…> им просто однажды объявили, что они уже сделали выбор…» [10:8]. Поддержание иллюзии этой свободы фактически оказывается в основе сегодняшнего существования человека. Жижек подчеркивает, что этот выбор можно делать лишь до тех пор, пока он «не нарушает общественного и идеологического равновесия». Парадокс рефлексивного общества заключается в том, что мы все время что–то выбираем, но по сути дела выбор за нас уже сделан.
В контролируемом, регламентируемом мире либеральной демократии «демократические свободы» для Жижека наименее свободны. Свобода — один из идеологических инструментов либеральной демократии, порабощение идеологией либеральной демократии. Инструмент этот предполагает ограничения в том наслаждении, которое могут получать другие. Никогда раньше, постоянно отмечает Жижек, не было такого количества ограничений в повседневной жизни, как сейчас. Теперь регулированию подлежит все: сексуальность, еда, выпивка, курение. Разве «помешательство на борьбе с «сексуальными домогательствами», — задается он вопросом, — не является одной из форм нетерпимости к чрезмерности наслаждения другого?» [11:67].
Еще одна особенность положения субъекта в условиях экономической диктатуры заключается в том, что сама «…сфера частной жизни овеществляется», удовольствие становится предметом вычислений» [11:67]. В таком сообществе увеличивается расстояние в отношениях с другим, и отношения эти оказываются опосредованными товарным фетишизмом, фетишизмом, вытесненным вовне, в товар, но при этом Другой. этот незримый идеологический большой Другой вторгается в самые основания нашей интимной жизни. Интимность распространяется за свои пределы, становится внешней, т. е., в терминах Лакана, превращается в экстимность [l'extimit]. Эта экстимность «объективированного» переживания Другого позволяет понять, как работает (тоталитарная) идеология; причем очевидной она становится в нашем плаче и нашем смехе, раздающихся с экрана телевизора.
Идеология общества потребления пронизывает всю символическую структуру, организующую жизнь субъекта. Однако парадоксальная логика капитализма приводит к тому, что общество потребления — это скорее общество сбережения, в котором расход ведет к доходу. Жижек описывает эту логику как логику траты. Единственным же объектом потребления в обществе расхода–и–накопления оказывается наркоман, растрачивающий себя в удовольствии без остатка, отказывающийся от идеологии бесконечной экономии средств при «потреблении» новинок.
Мы пребываем в условиях, в которых нас постоянно призывают забыть «старый» порядок, поскольку мы попали в совершенно «новый» порядок. Мы — в условиях новых условий. Так, «мудрецы "нью–эйджа"» утверждают, что мы вступили в «постгуманистическую» эпоху; психоаналитики спешат сообщить, что «эдипова» модель социализации ныне неприменима, что мы живем во времена универсализованной перверсии, так что понятие «вытеснение» не работает в наш пермессивный век; постмодернистская политическая мысль говорит, что мы вступаем в постиндустриальное общество…» [10:7]. Между парадигмами разверзается пропасть. Как будто нет никакой связи между тем, как человек существует в сегодняшнем мире, и тем, как он видит свое прошлое. Вокруг мы постоянно слышим: «не актуально», «устарело», «не модно». Нас постоянно убеждают в том, что нет связи между вчера и сегодня, что «новое» отменило «старое». Эта идеологическая ситуация, похоже, воспроизводит экономический режим потребления новинок. Мы списываем свое прошлое вместе со старыми телефонами, холодильниками и зубными щетками. Это идеологическое стирание прошлого не позволяет нам разглядеть сегодня ни регрессию научного представления о человеке к механистичности XIX века, ни неоспиритуализм, пронизывающий всю нашу повседневность, ни парадоксальное сближение науки с мистикой. Идеологическое стирание прошлого дезартикулирует ту символическую парадигму, в которой структурируется субъект. В таком разрыве между прошлым и настоящим Жижек и напоминает о мучительном вопросе Паскаля, — как остаться верным прошлому в новых условиях, — и сам обращается к «новому» и «старому», к новинкам кинорынка и тоталитарному опыту, к Лакану и Ленину, кока–коле и Сталину, христианству и современному визуальному искусству, Святому Павлу и глобализации. Причем именно глобализация вновь возвращает призрак Маркса, именно глобализация вновь делает актуальным марксистский анализ развития капитализма.