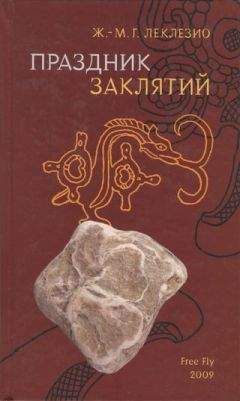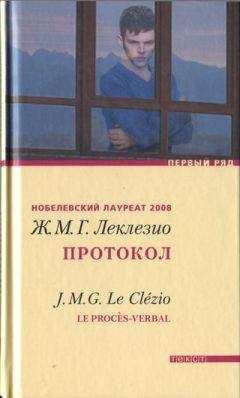Жан-Мари Густав Леклезио
Праздник заклятий. Размышления о мезоамериканской цивилизации
Лет двадцать назад, между 1970 и 1974-м, я имел счастье жить в панамской провинции Дарьен среди эмбера — одной из центральноамериканских народностей — и у их ближайших родственников ваунана. Опыт, приобретенный там, полностью изменил мои представления о жизни, о мире и об искусстве, мой способ сосуществовать с другими людьми, манеру ходить, есть, спать, любить и даже мечтать.
Эмбера и ваунана — племена общей численностью около пятидесяти тысяч человек, обитающие в малопосещаемом уголке Центральной Америки, именуемом Эль-Тапон («пробка»), ибо только там сохранилась нетронутая сельва, затрудняющая сообщение Северной Америки с Южной. Эмбера и ваунана, которых прочие жители обычно зовут общим именем «чоко», живут на ограниченной территории, их поселения тянутся по берегам рек Чукунаке и Туира и их притоков: Чико, Тупиза, Тукеза и Манене. Они принадлежат к народам жепано-карибской семьи языков, некогда населявшим острова Карибского моря, Венесуэлу и часть западной Колумбии. В XIX веке, теснимые европейцами и, как здесь их называли, «вольными неграми», то есть чернокожими, освободившимися из рабства, чоко начали перебираться в панамский Дарьен, оттесняя своих всегдашних врагов из народностей культуры туле (или куна) к архипелагу Сан-Блаз и в верховья Рио-Чукунаке. Но в преданиях своих чоко утверждают, что их предки пришли из Колумбии, с отмелей Буэновентура в устье Рио-Баудо, где их бог Хевандама посадил в песок древесные черенки и из них выросли первые люди.
Я случайно встретил эмбера в Панаме, ватагу юнцов, отиравшихся в припортовом квартале Мараньон. Несмотря на свои грязные лохмотья, они выглядели невероятными красавцами: длинные пряди черных волос, безбородые лица, выкрашенные темно-синей краской, выражение беззаботной, добродушной жизнерадостности, так контрастировавшей с нищетой этих «баррио». Я подошел к ним, заговорил, и они тотчас пригласили меня приехать в Дарьен погостить в их селениях, протянувшихся по берегам рек. И вот несколько дней спустя я купил билет на местный пароходик, похожий на старинную каравеллу, что курсировал между городом Панамой и дарьенским портом Эль Реаль. Там я нанял одну из пирог, которые ходили вверх по тамошним рекам, и мое приключение началось.
В те времена я еще никакой экологии и в мыслях не имел, знать не знал ничего о прошлом коренного населения Америки. Просто бежал от агрессивной жизни больших городов, искал чего-нибудь нового, ранее не испытанного. Так, однажды в Таиланде я серьезно подумывал уйти в буддийский монастырь на Малазийском полуострове около Сонгкхла. В некотором роде я готовил себя ко встрече с кем-то или с чем-то, что бы позволило мне одолеть свои наваждения и обрести внутреннюю гармонию.
Именно это и случилось, когда я познакомился с эмбера, живущими на берегах Рио-Тукезы. Я не сразу осознал, что со мной происходит. Всякий контакт с иным типом общественного устройства довольно сложен, и то, с чем я сталкивался, не сразу получало вразумительное объяснение, да и не нуждалось в словесном оформлении. Ко всему прочему я отдавал себе отчет, что эмбера, обучая меня своему языку или отвечая на расспросы, избирали самую упрощенную версию — минимум слов или самое общее истолкование того, что касалось сущности их культуры. Здесь не было никакого пренебрежения к моим способностям — они просто учитывали, что я городской житель наподобие тех обитателей пригородов Панамы, с которыми им уже приходилось общаться, а потому просто не способен понять все и сразу.
Постепенно я приближался к постижению мира, совершенно не похожего на все, что мне встречалось ранее. Каждый приезд туда (эти поездки приходились на шесть-восемь месяцев сезона дождей: тогда местные жители отдыхали от трудов, а уровень воды в речках повышался и по ним можно было путешествовать) чем-то меня обогащал, дарил способность по-новому видеть, чувствовать и говорить. Я узнал, к примеру, что невежливо садиться, ставя ноги носками к собеседнику, так усаживаются только сироты. Узнал, что нельзя показывать на что-нибудь ртом, особенно на радугу, это опасно, ибо грозит параличом. Уразумел, что не должно окликать кого-либо по имени, поскольку имя — его тайна, и тайну эту нетрудно похитить. Я теперь знаю, что надлежит отворачиваться, когда ешь, и прикрывать рот, когда смеешься. А по лесу нужно ходить молча, всегда начеку, не останавливаясь и не присаживаясь. Еще мне стало известно, что ягуар не когтит свою добычу, но убивает ударом лапы, подушечки которой тверды, как камень. Я научился распознавать деревья, определять, из какого долбить пирогу, — оно, подобно ливанскому кедру или «кокоболло», разновидности палисандра с темно-красной маслянистой древесиной, не гниет, — а какое медленно горит, нагревая камни очага. Научился обдирать кору каучукового дерева и отбивать ее в воде, чтобы превратить в мягчайшую подстилку для сна. Я теперь разбираюсь в крепких лесных запахах и способен идти по следу агути, не сбиваясь, словно вижу зверя воочию. Я стал различать растения по аромату, по вкусу, находить такие пахучие травы, как «пикива» (ее закладывают за ухо), и такие целебные растения как «тахута», чей сок благотворно действует на глаза, и даже такие корешки, что скрываются в земле и походят на кораллового аспида, от яда которого они, кстати, и помогают. Мне также известно, что белый дурман, называемый «ива», говорит с теми, кто пьет сок его листьев, что у всех деревьев есть глаза и они наблюдают за вами, что духи строят дома на другом берегу реки, напротив домов, что стоят на этом, и каждую ночь, перенесясь через реку, эти духи танцуют, как языки пламени.
Я убедился в пустопорожности всего, что относится к нашей потребительской цивилизации, особенно когда жара, сырость и насекомые делают бесполезными ее достижения. Там я жил в домах, просторных, словно дворцы, и столь же прекрасных своими закругленными линиями, в хоромах, что стоят на сваях вдоль кромки речной воды, построенных по простому и гениальному принципу зонта с древесным стволом в роли центрального стержня и без всяких наружных стен, лишь с необъятной крышей из пальмовых листьев, укрывающей от дождя, утреннего тумана и палящего полуденного солнца. Особенно хороши там были полы, сложенные из местной разновидности черного упругого бамбука, прохладные днем и теплые по ночам.
Я открыл для себя, какая роскошь не иметь иной мебели, кроме подстилки из коры каучукового дерева, противомоскитной сетки и пурукау, «дочери головы» — вырезанной из дерева подушки, которую каждое утро забрасывают на крышу. Я познал наслаждение от купания в вечернем сумраке, когда солнце уже зашло и теплая речная вода обнимает вас, храня от ночного холода. Я научился управляться с пирогой при помощи длинного шеста, цепляясь за ее борта пальцами ног, на полной скорости проходить узкие «рукава» и преодолевать стремнины, угадывать проход единственно по цвету воды, по легчайшей зыби определять, где притаились подводные камни и ощетинившийся сучьями топляк.
Ночи были великолепны — шумные, наполненные звуками песен. Женщины пели, отбивая ритм ударами ладоней по ожерельям. Их песни повествовали о Хинупото, когда-то подглядывавшем за девушками и кравшем их менструальную кровь, о зеленом дятле, похитившем огонь у каймана, или о большом дереве Куиппо, которое, упав на землю, подарило людям воду, поскольку его корни сделались источниками, а ветви — реками, текущими в море.
С Эльвирой я познакомился в маленьком вольном городке Явиза. Она была частой посетительницей местных баров — красивая девушка без холода во взгляде, любившая выпить и потанцевать со «свободными» партнерами в ритме кумбии, мелодии которой разносятся здесь из большинства музыкальных автоматов во всех забегаловках, расположенных вдоль единственной сельской дороги. У Эльвиры было правильное лицо, подкрашенное черным соком генипы, пышная агатово-черная шевелюра, тяжелые золотые серьги и серебряные ожерелья «паратакхадда». Она охотно смеялась, обнажая великолепные сияюще-белые зубы. Она носила прелестные таитянские парео из ярких тканей, украшенные желтыми соцветиями, похожими на солнечные диски, и цветами китайской розы. Она походила на легкую перепархивающую птичку. Поговаривали, что она торговала собой, но я этому не верил.
Позже мне поведали о ее драме. В очень юном возрасте Эльвира забеременела от человека, который ее тут же бросил. Однажды ночью в припадке отчаянья она убила еще не рожденного младенца, колотя себя по животу кулаком. Чуть не умерла. Теперь у нее уже никогда не будет детей. Она бродила вдоль реки, от одного дома к другому, жила от праздника до праздника, пьянствовала, много пела. Знала уйму старинных песен, долгих, словно сказки, тех песен, какие женщина напевает на ушко своей подруге, обнимая ее и укачивая. В такие минуты голос ее становился тонким, высоким и скрипучим, как у цикады. Companita, companita, mü companita, akhuko-batüada… — «Подруга моя, моя милая, сядь, послушай…». Звучали песни о первом мужчине и женщине, о том, как появился на свете табак, песня вши, песня подземного мира. А еще о любви, о наслаждении и муке, о нескончаемом одиночестве. Когда Эльвира начинала петь, вокруг нее рассаживались дети, женщины, а подчас и мужчины, хотя последним и не полагалось слушать подобное. Голос певицы звенел в молчании ночи, похожий на голос маленькой девочки, и лицо ее тогда тоже становилось почти младенческим, дивно светлело от пронизывающей все ее естество благодатной радости, ничего не желавшей знать о том, что пережито: без следа уходила память былых тревог, выпивок, скитаний, горечь от чужой низости.