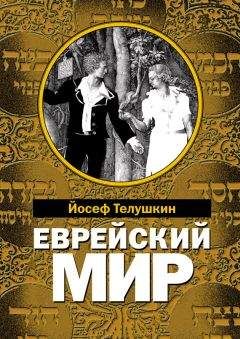Во-вторых, я пришёл к тому выводу, что каббала отличается своим необычайно положительным отношением к языку. Каббалисты, расходившиеся почти во всём остальном, были едины в том, что видели в языке нечто более ценное, чем несовершенное орудие общения между человеческими существами. В противоположность теории языка, господствовавшей в Средние века, они видели в языке иврит, святом языке, не просто средство для выражения определённых мыслей, не язык, порождённый соглашением и носящий чисто условный характер. Язык в своей чистейшей форме, то есть язык иврит, по мнению каббалистов, отражает фундаментальную духовную природу мира. Иными словами, он обладает мистической ценностью. Речь доходит до Бога, потому что она исходит от Бога. В человеческой речи, которая, по крайней мере на первый взгляд, носит исключительно познавательный характер, отражается созидательный язык Бога. Всё творение – и это важный принцип большинства каббалистов – для Бога есть лишь выражение Его сокрытой сущности, начало и конец которой заключаются в наречении Себя самого именем, святым именем Бога. Это вечный акт творения. Всё сущее есть лишь выражение языка Бога, и что может в конце концов возвестить откровение, если не имя Бога?
Я вернусь к этому вопросу в дальнейшем. Здесь же я хотел бы отметить это своеобразное толкование, эту восторженную оценку языка, при которых он и мистический анализ его считаются ключом к сокровеннейшим тайнам Творца и Его творения.
В этой связи интересно задаться вопросом: что общего в отношении разных мистиков к некоторым другим ценностям и явлениям, как, например, к интеллектуальному познанию и в особенности к рационалистической философии или, если привести пример из другой области, к проблеме индивидуального бытия? Ибо, в сущности, мистика, начинающаяся как религия индивидуума, затем переходит к растворению Я в высшем единстве с Богом. Она, пользуясь платоновским термином, постулирует самопознание человека в качестве наиболее верного пути к Богу, раскрывающему Себя в глубинах человеческого Я. Поэтому мистические тенденции в иудаизме, как и в других религиях, вопреки их строго личному характеру, часто вели к образованию новых социальных групп и общностей: проблема, к которой мы вернёмся в конце книги. Йозеф Бернхарт, один из исследователей мистики, справедливо заметил: «Сделал ли кто-нибудь больше, чтобы вызвать историческое движение, чем те, кто ищет и провозглашает недвижимое?» [XXI]
Именно этот вопрос истории возвращает нас к проблеме, с которой мы начали: что такое еврейская мистика? Сформулируем этот вопрос иначе: что можно понимать под общей характеристикой мистики в рамках еврейской традиции? Напоминаем, что каббала – это не название какого-либо догмата или системы, но общий термин, обозначающий целое религиозное движение. Это движение, с некоторыми стадиями и тенденциями которого нам предстоит познакомиться, возникло в талмудический период и продолжается до настоящего времени. Его развитие носило непрерывный, хотя и переменчивый и зачастую драматический характер. История мистики длится от рабби Акивы, о котором в Талмуде сказано, что он оставил «рай» мистической спекуляции таким же целым и невредимым, каким вошёл в него, – чего, право же, нельзя сказать о каждом каббалисте, вплоть до покойного рабби Авраама Ицхака Кука, религиозного руководителя еврейской общины в Эрец-Исраэль и блестящего современного мистика [11]. Я хотел бы упомянуть здесь, что в нашем распоряжении имеется обширный корпус опубликованных мистических текстов, число которых, по моим подсчетам, доходит до трёх тысяч [12]. Помимо этого есть много неопубликованных рукописей.
В этом движении представлены, пользуясь выражением Уильяма Джеймса, различнейшие типы религиозного опыта. В нём соприсутствовали различнейшие тенденции, а также различнейшие системы и формы спекуляции. Мало общего имеется между самыми ранними из дошедших до нас мистических текстов, датируемых талмудическим и послеталмудическим периодами, произведениями ранней испанской каббалы, произведениями направления, расцвет которого отождествляется с Цфатом, ставшим в XVI веке священным городом каббалы, и, наконец, хасидской литературой нового времени. Но возникает вопрос: нет ли чего-то более значительного, чем чисто историческая связь, что объединяло бы эти disjecta membra ((латинское) разрозненные части; несвязанные цитаты), чего-то, что послужило бы указанием на то, что отличает это мистическое движение в иудаизме от нееврейской мистики? Этим общим знаменателем могут служить некоторые неизменные основные представления относительно Бога, творения и роли, которую играет человек во вселенной. Двух первых идей я уже касался, а именно – идеи атрибутов Бога и идеи символического смысла Торы. Но быть может, таким объединяющим началом является отношение еврейского мистика к господствующим духовным силам, определявшим и формировавшим духовную жизнь еврейства в течение последних двух тысяч лет: Галахе, Агаде, молитвам и философии иудаизма, если ограничиться упоминанием наиболее существенных из них. Именно на этот вопрос я попытаюсь дать ответ, не вдаваясь, однако, в частности.
Как я уже отмечал, отношение мистики к миру истории может послужить удобным отправным пунктом для нашего исследования. Распространено мнение, что мистике чужда, если не враждебна, история. Исторические аспекты религии имеют значение, с точки зрения мистика, лишь как символы процессов, которые протекают, по его утверждению, вне времени или постоянно воспроизводятся в душе каждого человека. Так, Исход из Египта, основное событие нашей истории, в глазах мистика не может происходить только однократно и в одном месте. Оно должно соответствовать событию, происходящему в нас самих: Исходу из внутреннего Египта, рабами которого все мы являемся. Лишь понимаемый таким образом Исход перестаёт быть предметом науки и обретает достоинство непосредственной религиозной действительности. Вспомним, что учение о «Христе в нас» также получает столь большое значение для христианских мистиков, что образ исторического Иисуса из Назарета очень часто отходит на задний план. Если, однако, абсолютное, которое ищет мистик, невозможно обнаружить в перипетиях исторического процесса, невольно напрашивается вывод, что оно либо предшествовало началу мировой истории, либо должно раскрыться в конце времён. Другими словами, знание первооснов творения и знание его конца, эсхатологического спасения и блаженства, может обрести мистическое значение.
«Мистик, – пишет Чарльз Беннет в своей глубокой работе, – как бы предвосхищает процессы истории, предвкушая в своей собственной жизни радость последнего века» [XXII].
Эта эсхатологическая природа мистического знания обретает первостепенное значение в сочинениях многих еврейских мистиков, от анонимных авторов первых трактатов Хейалот до рабби Нахмана из Брацлава. И значение космогонии для мистической спекуляции иллюстрируется на примере еврейской мистики подобным же образом. Каббалисты едины в том, что видят в мистическом пути к Богу обращение того процесса эманации, с помощью которого мы возникли из Него. Познать стадии созидательного процесса означает также познать стадии своего собственного возвращения к корню всего сущего. В этом смысле истолкование Маасе берешит, эзотерической доктрины творения, неизменно было одной из главных целей каббалы. Именно в этом вопросе каббала ближе всего к неоплатонической философии, о которой справедливо утверждалось, что в ней поступательно-возвратное движение является единым движением – диастолой-систолой, составляющей жизнедеятельность вселенной [XXIII]. Точно такого же взгляда придерживаются и каббалисты.
Но космогонический и эсхатологический пути каббалистической спекуляции, которые мы пытались наметить, в сущности, ведут к бегству от истории, а не к её пониманию, то есть они не позволяют нам установить истинный смысл исторического процесса.
Имеется, однако, ещё более поразительный пример связи между концепциями еврейской мистики и концепциями исторического мира. Примечательно, что сам термин «каббала», которым чаще всего обозначается еврейская мистика, происходит от исторического понятия. Буквальный смысл слова «каббала» – «традиция», и это само по себе служит превосходной иллюстрацией той парадоксальной природы мистики, на которую я указывал выше. То самое учение, в основе которого лежит идея непосредственного личного общения с Божеством, то есть в высшей степени личной и интимной формы познания, воспринимается как традиционная мудрость. Дело, однако, в том, что идея еврейской мистики с самого начала сочетала в себе представление о знании, которое по самой своей природе с трудом поддаётся передаче и потому является тайным, с представлением о знании как о тайной традиции избранных умов или адептов. Поэтому еврейская мистика – чего нельзя сказать обо всех формах мистики – есть тайное учение в двояком смысле: она такова и потому, что рассматривает сокровеннейшие и фундаментальнейшие проблемы человеческого бытия, и потому, что знакомство с ней ограничено узким кругом избранных, передающих свои знания ученикам. Правда, эта картина никогда абсолютно не соответствовала действительности. Утверждение, что только немногие избранники могут приобщиться к мистической тайне, противоречило, во всяком случае в определённый период, практике каббалистов, пытавшихся охватить своим влиянием как можно более широкий круг людей и даже весь еврейский народ. Имеется некоторое соответствие между этим развитием и развитием мистериальных религий эпохи эллинизма, когда влияние тайных учений, в основе своей мистического характера, распространялось на всё большее число людей.