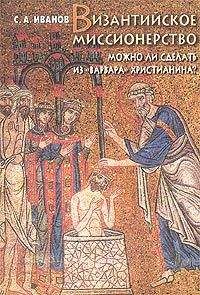Что касается самой имперской церкви, то ее роль в христианизации варваров носила пассивный характер. Это не было случайностью и не воспринималось самой церковью как недостаток. Ведь с ее точки зрения, обращал Бог, а люди с их личной инициативой играли в лучшем случае вспомогательную роль. Чрезвычайно ярким выражением этой мировоззренческой установки было «миссионерство» столпника, т. е. святого, подвиг которого заключался в неподвижном стоянии на столпе. На современный взгляд, это выглядит как парадокс: ведь миссионерство вроде бы ассоциируется с некоторым жизненным активизмом и физическим преодолением пространства. Но в ту эпоху люди чувствовали иначе.
В нашем распоряжении имеется несколько версий жития знаменитого столпника V в. Симеона, в каждой из которых так или иначе затронута проблема обращения им варваров. В сирийском тексте это представлено так: «Сколько арабов из числа тех, которые и не знали, что такое хлеб, но питались мясом зверей, приходили, и видели святого, и становились христианами, и отказывались от идолов своих отцов, и служили Богу! Сколько варваров, армян!..»[141]. Греческая версия жития упоминает лишь о сарацинах[142], но вот в «Религиозной истории» Феодорита Киррского эта тема получает мощное развитие: «Сходились не только те, кто живет в нашей вселенной (ού γαρ μόνον οί την καθ’ ήμας οικουμένην οίκοϋντες), но также и исмаилиты, и персы, и армяне, их подданные, и ивиры, и химьяриты (ср. ниже, с. 89), и те, кто живет еще дальше них»[143]. Под пером Феодорита дальнейшее развитие получает мотив пассивного крещения: «…сей ярчайший светоч наподобие солнца повсюду рассеивал свои лучи, и можно было видеть, как ивиры, как я уже говорил, и армяне, и персы приходили и вкушали божественное крещение»[144].
Весьма любопытен тот автобиографический эпизод, который рассказывает Феодорит: «Однажды я подвергся величайшей опасности. Симеон приказал исмаилитам подойти и получить у меня святительское благословение, сказав, что они сподобятся от этого большой пользы. Они же, по–варварски (βαρβαρικώτερον) сбежавшись, одни стали тянуть меня спереди, иные сзади, третьи с боков. Те же, кто отстал от других, подбегали и, протягивая руки, одни дергали меня за бороду, другие хватали за одежду. Я бы задохнулся от их жаркого напора, если бы [Симеон] громким криком не разогнал их всех. Вот… такое сияние богопознания рассеивал столп среди варварских душ. Известен мне и другой такой же случай, который с ними произошел. Некое племя умоляло божественного мужа послать молитву и благословение их вождю. Другое же присутствовавшее там племя возражало, что благословение нужно послать не ему, а их собственному предводителю: мол, первый — беззаконнейший, а второй чужд всякого беззакония. Тут началась борьба честолюбий и варварская свара, а кончилось тем, что они кинулись друг на друга. Я принялся многословно уговаривать их успокоиться, поскольку, мол, у божественного мужа хватит благословения и на того, и на другого. Но одни отвечали, что [вождь второго племени] вообще не должен сподобиться благословения, а вторые пытались оставить без благословения [первого вождя]. [Симеон], пригрозив им с высоты [своего столпа] и обозвав их псами, еле–еле погасил распрю»[145].
Феодорит не был случайным паломником у Симеонова столпа — в образовавшемся вокруг столпа монастыре Джебел–Симан он наверняка входил в особый персонал, ответственный за массовые обращения варваров[146]. И тем не менее писатель не скрывает своего гадливого отношения к дикарямнеофитам. По всей видимости, с ним солидарен и сам Симеон: ругательство «пес» является самым ходовым у подданных Империи в отношении арабов[147]. Таким образом, ранневизантийский святой не только не идет к варварам по собственной инициативе — он крайне пренебрежительно обращается с ними, когда они сами приходят к нему. И тем не менее поток неофитов не ослабевал. Причина состояла в том, что христианство ассоциировалось у самых разных народов с мощью и процветанием. И в этом смысле арабские вожди, передравшиеся из‑за столпничьего благословения, четче осознавали его политический вес, чем это понимал (или делал вид, что понимает) сам столпник[148].
Глава III. Отношение к миссии у Отцов церкви
I
Если язычники гордились «всемирностью» Римской империи, то ранние христиане — вселенским распространением своей церкви (см. выше, с. 22). Рим же казался им «Вавилонской блудницей». Однако в III в. ситуация начинает меняться. Уже у Оригена можно встретить идею о том, что Христос не случайно родился в правление Августа, когда Рим был на вершине своего могущества: по его мнению, единобожию должно соответствовать единовластие; Август, прекративший гражданские усобицы, тем самым облегчил апостолам задачу проповеди Евангелия по всей империи[149]. После обретения новой религией статуса государственной — претерпело дальнейшую эволюцию и отношение к самому Государству[150]. Идеология, намеченная Оригеном, была развита Евсевием, который «скрестил» христианство с эллинистической концепцей монархии[151]. Рим из гнусного Вавилона постепенно перевоплощался в провиденциальный Иерусалим, а соответственно этому менялся и взгляд на варваров. Конечно, традиция их превознесения, сложившаяся у раннехристианских апологетов, не исчезла и в творениях Отцов церкви. Многие из них находили у дикарей известные достоинства. Так, Златоуст хвалит их за простоту: «Послушай, какова жизнь обитающих в повозках скифов, какой образ существования имеют, по рассказам, кочевники. Вот так же, обходя вселенную, надо жить и христианам… уйдемте же в их шатры, дабы на деле научиться неприхотливости!»[152] Феодорит Киррский отмечает у варваров сметливость и восприимчивость к христианской проповеди: «Пусть никто не думает, будто эллины рождаются одними, римляне иными, и что египтяне, персы, массагеты, скифы созданы из другого теста… И среди варваров существует стремление к добродетели, и различие по языку не препятствует ее обретению. Ибо все провозвестники истины, я имею в виду пророков и апостолов, не сподобились эллинского сладкоречия, но, будучи преисполнены истинной мудрости, принесли Божье учение всем народам, и эллинским, и варварским… [Язычники] высмеивают (κωμωδοΰσι) имена [апостолов] как варварские — мы же оплакиваем неразумие язычников. Ведь они, даже видя, как варвароязычные (βαρβαροφώνους) мужи победили эллинское велеречие… — все равно не усовестились… Вы не сможете предъявить нам ни одного учителя [ваших языческих] догматов, мы же явственно демонстрируем силу апостольских и пророческих учений: ведь весь подлунный мир полон этими поучениями. И еврейская речь была переведена не только на греческий язык, но и на римский, и на египетский, и на персидский, и на индийский, и на армянский, и на скифский, и на савроматский — короче говоря, на все языки, какими продолжают пользоваться все народы… Наши рыбаки, мытари и кожевники убедили и эллинов, и римлян, и египтян, и попросту всякий народ… И научились они от тех, которых вы называете варвароязычными (βαρβαροφώνους). Всякий язык имеет одинаковый смысл — ведь у всех людей одна природа, их учителем является опыт. Ведь и у варваров можно найти и искусства, и науки, и воинскую доблесть… Номады, наши соседи, — я говорю о тех исмаилитах, что обитают в пустыне, — украшены разумом и совестью…»[153]. Панегирик Феодорита исполнен симпатии к варварам, но сама изначальная посылка обличает укоренившееся среди христиан презрение к ним.
Мы говорили о том, что еще у апологетов появляется мотив смягчения варварского нрава как цели катехизации (см. с. 26). Естественно, после превращения христианства в господствующую религию этот мотив многократно усилился. Тон и здесь задавал Евсевий Кесарийский (Eusebii Praeparationes evangelicae, I, 4, 6—9; Ejusdem Demonstrationes evangelicae, I, 6, 5), но за ним быстро последовали другие. Афанасий Александрийский пишет: «Кто из людей смог когда‑либо раньше забрести так далеко и пройти скифов, эфиопов, персов, армян, готов, людей, живущих вблизи Океана, тех, кто обитает по ту сторону Гиркании… а также египтян и халдеев?.. Им, суеверным сверх нормального и диким по своему нраву (αγρίους τοις τρόποις), Господь через своих учеников не только возвестил (έκήρυξε) о добродетели, но и убедил отказаться от дикости в нравах (την μέν των τρόπων άγριότητα μεταθέσθαι)… Они отвергли жестокие убийства и более не жаждут войн (ούκ ετι πολέμια φρονοΰσι)»[154]. У Кирилла Александрийского читаем: «Грубый (αγροικον) нрав языцев, воспитанных не в законе, живущих неприхотливо и дико (άπημελεμένως καί άγρίως), переменился на более кроткий — все это случилось от Христова поучения»[155]. По словам историка Созомена, некоторые варвары, «давно приняв христианскую веру, переменили нрав на более мягкий и разумный (επί τό ήμερώτερον καί λογικόν μεθηρμόσαντο)» (Sozomeni II, 6).