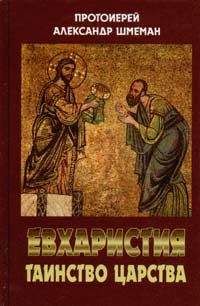Можно также понять, почему мы называем этот подход трагедией и видим в нем источник коренного обеднения видения и опыта Церкви в области таинств. Если в настоящее время для столь многих людей таинства превратились в непонятные для них обременительные «обязанности», которые необходимо исполнять: некоторые — раз в жизни, другие — раз в год; если очень немногие ощущают их как источник радости, как истинное наполнение их христианской жизни; если прямо спрашивают: «к чему вообще таинства?» или пытаются переоценить их с помощью всякого рода новых толкований и символов, то не потому ли, прежде всего, что богословие само превратило таинства в такого рода «обязанности», в, скажем откровенно, непонятное «средство» получения равным образом непонятной «благодати»? Не результат ли это того, что как вера, так и благочестие перестали воспринимать таинства как истинные события «обновленной жизни» во Христе, которая и есть благодать? Пока богословы определяли и измеряли благодать и ее «действие» в каждом таинстве, пока канонисты обсуждали формы и условия «действенности», верующие — и это не преувеличение — потеряли интерес к таинствам. Им говорят, что таинства необходимы и они принимают их как самоочевидное церковное установление; однако не только, как правило, не знают, но — что гораздо серьезнее — и не хотят знать, почему они необходимы. Они совершают все, что положено, для того чтобы окрестить своих детей и «сделать» их таким образом христианами, но большинству из них нет дела до того, как крещение «создает» христианина, что именно происходит в крещении и почему.
7. «Подобием смерти и воскресения Христа»
Что же касается ранней Церкви, то у нее было это знание, причем даже до того, как она смогла его выразить в рациональных и последовательных теориях. Ранняя Церковь знала, что в крещении мы истинно умираем и истинно воскресаем со Христом, потому что она испытывала это каждый раз, совершая это таинство. Если мы хотим, чтобы крещение восстановило свое первоначальное место и значение, мы должны вновь обратиться к тому знанию, что освещало всю жизнь ранней Церкви невыразимой радостью, делало ее поистине пасхальной. Итак, что означают слова ап. Павла: «если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения» (Рим. 6, 5)? Как мы умираем подобием Христовой смерти? И как мы воскресаем подобием Его воскресения? И почему это — и только это — является условием вступления в новую жизнь в Нем и с Ним?
Ответ на эти вопросы содержится в утверждении Самого Христа, что смерть Его — это смерть добровольная. «…Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимет ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и властью имею опять принять ее» (Ин. 10, 17—18). Церковь учит нас, что, как безгрешный, Христос не был естественным образом подвержен смерти, что Он был полностью свободен от человеческой смертности, которая есть наша общая неизбежная судьба. Его смерть не была вынужденной. Следовательно, если Он все же умер, то только потому, что Он пожелал умереть, потому что таковы были Его выбор и решение. И именно добровольность Его смерти, смерти Бессмертного, превращает ее в смерть спасительную, наполняет ее спасительной силой, делает ее нашим спасением. Но тут, прежде чем мы станем отвечать на вопрос о связи между смертью Христа и нашей собственной смертью в крещении, мы должны восстановить истинное значение Христова желания умереть.
Я говорю «восстановить», потому что, хотя это и может показаться странным, величайшая «ересь» нашего времени касается именно смерти. Именно в этом вопросе, который столь важен как для веры, так и для благочестия, по–видимому, произошла парадоксальная, хотя и бессознательная, метаморфоза, полностью устранившая из нашего мировоззрения христианское видение и опыт смерти. Говоря простыми, может быть даже несколько упрощенными словами, эта ересь состоит в утрате самими христианами понимания духовного значения и содержания смерти — смерти как события прежде всего духовного, а не только физиологического. Для подавляющего большинства христиан смерть представляется как только физическое явление, как конец этой жизни. За ее пределами вера полагает и утверждает другую, чисто духовную и нескончаемую жизнь — жизнь бессмертной души, так что смерть оказывается естественным переходом из одной жизни в другую. При таком подходе, который фактически не выходит за рамки всей платонической, идеалистической и спиритуалистической традиции, становится все менее и менее понятной, все менее и менее «экзистенциальной», все менее проникающей в веру, благочестие и жизнь первоначальная христианская концепция, делавшая упор на разрушении смерти Христом («смертию смерть поправ»), сугубо христианская радость об уничтожении смерти, столь явная в ранней Церкви («…Поглощена смерть победою. Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15, 54—55)) и все еще столь очевидная в наших богослужебных текстах («Воскресе Христос, и мертвый ни един во гробе…»). Мы живем так, как будто смерть и воскресение Христа были «событиями в себе», которые мы должны вспоминать, праздновать, сопереживать, особенно в Страстную Пятницу и в Пасхальное Воскресение, но которые не имеют реальной, экзистенциальной связи с нашей собственной смертью и нашей загробной участью. Последние воспринимаются и трактуются с точки зрения совсем иной перспективы: перспективы «естественной», или биологической смерти и равно «естественного», хотя и «духовного», бессмертия. Смерть относится к телу, бессмертие — к душе. И христианин, не отвергая явно первоначальной веры и должным образом отмечая ее праздники, в действительности не знает, что делать с «разрушением смерти» и «воскресением тела»; он не знает, как соотнести эти понятия со своим жизненным опытом и интеллектуальными воззрениями, в которых легко сочетаются (что характерно для псевдодуховного религиозного возрождения нашего времени) позитивизм и спиритуализм, но почти полностью игнорируется космологический и эсхатологический опыт ранней Церкви.
Причины такого расхождения, этой всепроникающей, хотя и почти неосознаваемой, ереси довольно очевидны. Они, если воспользоваться современной терминологией, — семантические, хотя и на очень глубоком психологическом и духовном уровне. Современный человек, даже если он христианин, рассматривает смерть как явление полностью биологическое; он не слышит христианского Благовестия о разрушении и уничтожении смерти, потому что на биологическом уровне после смерти Христа со смертью действительно ничего не произошло. Смерть не была ни разрушена, ни уничтожена. Она остается все тем же непреложным естественным законом, одинаковым как для святых, так и для грешников, как для верующих, так и для неверующих, — одним и тем же органическим принципом самого существования мира. Христианское Евангелие кажется несогласующимся со смертью, как ее понимает современный человек, и он спокойно отказывается от Евангелия и возвращается к старому и гораздо более приемлемому дуализму: смертности тела, бессмертию души.
Но современный человек не понимает, что то, к чему он стал слеп и глух, является фундаментальным христианским видением смерти, при котором биологическая или физическая смерть не есть полная смерть, ни даже ее основная сущность. Ибо в христианском понимании смерть есть, прежде всего, духовная реальность, к которой можно быть причастным и будучи живым и от которой можно быть свободным даже лежа в могиле. Смерть — это отделенность человека от жизни, т. е. от Бога, Который есть единственный податель Жизни, Который Сам есть Жизнь. Смерть противоположна не бессмертию — ибо как человек не создал себя сам, так он не имеет власти и уничтожить себя, вернуться в то ничто, из которого он был вызван к существованию Богом, и в этом смысле он бессмертен, — а истинной Жизни, которая была «свет человеков» (Ин. 1, 4). Вот от этой истинной жизни человек волен отказаться и, таким образом, умереть, так что самое его «бессмертие» станет вечной смертью. Эту жизнь он отверг. Это и есть первородный грех, первоначальная вселенская катастрофа, о которой мы знаем не из истории, не разумом, а посредством того религиозного чувства, той таинственной внутренней веры, присущей человеку, которую не может разрушить никакой грех, которая всегда и везде вызывает в нем жажду спасения.
Таким образом, полная смерть представляет собой не биологический феномен, а духовную реальность, чье «жало… есть грех» (1 Кор. 15, 56), — отвержение человеком единственно истинной жизни, данной ему Богом. «Грех вошел в мир, и грехом смерть» (Рим. 5, 12): нет другой жизни, кроме жизни в Боге; тот, кто отвергает ее, умирает, потому что жизнь без Бога и есть смерть. Это духовная смерть, которая наполняет всю человеческую жизнь умиранием и, будучи отделенностью от Бога, превращает ее в одиночество и страдание, наполняет страхом и иллюзиями, отдает человека в рабство греху и злобе, похоти и пустоте. Именно духовная смерть делает физическую смерть человека истинной смертью, конечным плодом его наполненной смертью жизни, ужасом библейского «шеола», где само выживание, само «бессмертие» есть не что иное как «присутствие отсутствия», полная отделенность, полное одиночество, полная тьма. И до тех пор, пока мы не восстановим христианское видение и «чувство» смерти, смерти как ужасного и греховного закона и содержания нашей жизни (а не только нашей «смерти»), смерти «царствующей» в мире сем (Рим. 5, 14), мы будем не в состоянии понять значение Христовой смерти для нас и для мира. Ибо Христос пришел разрушить и уничтожить именно духовную смерть; Он пришел спасти нас от нее.