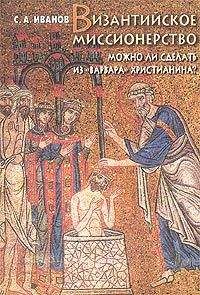Если же оставаться на базе традиционных датировок, то придется признать, что ни византийская церковь, ни имперские власти не так уж и гордились миссионерскими успехами как таковыми — гораздо важнее были успехи политические. Хотя никаких реальных шансов подчинить бесконечно далекое Аксумское царство у Константинополя не было, в идеале византийцы все равно считали его подвластным себе — об этом свидетельствует как письмо Констанция II (см. с. 48), так и ложное сообщение Малалы (см. с. 74). Видимо, эта идеологическая установка греков была известна и в самой Эфиопии. Мало того, как в IV в. (см. с. 49), так и в VI в. там нашелся своего рода «ответ» на имперские притязания Константинополя — собственная религиозно–политическая концепция, зеркально отражавшая византийскую. В ней константинопольский император воспринимался как младший брат эфиопского негуса[226]. В эфиопской апокалиптике со ссылкой на «рукописи церкви Софии в Константинополе» рассказывается, что «два царя, Юстин, царь Рима, и Калеб, царь Эфиопии, встретились в Иерусалиме и разделили между собою землю… и во имя любви оба они стали носить титул царя Эфиопии»[227]. Видимо, в такой ситуации «конфликта легитимностей» византийская власть предпочла в конечном счете практически исключить Эфиопию из своей культурной вселенной.
Император Юстиниан I был своего рода чемпионом «государственной» миссии. Помимо прочего, он хотел христианизировать все население Империи. Так, его посланник Иоанн Эфесский насильственно крестил в одной только Малой Азии около 80 тысяч человек и построил 90 церквей. Об Иоанне известно, что его послал миссионерствовать лично император Юстиниан[228]. Нас, однако, больше интересуют заграничные христианизаторские опыты императора. Рассмотрим прежде всего Причерноморье.
Как уже говорилось выше (см. с. 49), в Херсоне бытовала местная легенда о епископах, якобы старавшихся обратить город в христианство в начале IV в. История эта имеет много изводов, отражающих разные стадии ее развития. На первом этапе легенда призвана была обосновать автокефалию Херсонской церкви ее происхождением от иерусалимского патриарха Хермона; позднее историю обработали в интересах Константинопольской патриархии, получившей верховенство над Херсоном: тут в дело был введен сам император Константин Великий, якобы лично озаботившийся насаждением в Херсоне истинной веры. На третьем этапе развития легенды, когда все эти распри уже забылись, Хермон с Константином из «антагонистов» превратились в сотрудников. «Когда Константин принял ромейский скипетр, Хермон, пасший Христовы стада, выслал семь духовных тягловых быков, чтобы вскопать страну Херсонитскую… первыми Василия и Эфрема — Эфрема[229] он поставил (έφίστησι) в страну тавроскифов, соседствовавшую с Херсоном, а Василия отправил по–пастырски заботиться о самом Херсоне»[230]. Видимо, ядро легенды стало складываться в Херсоне в конце IV в.[231] и развивалось вплоть до VI, когда культ херсонских мучеников окончательно сложился[232]. История о миссионерах–одиночках преобразилась в рассказ о насаждении новой религии при помощи военной силы: епископ Капитон прибывает в город с отрядом из пятисот воинов «ради собственных нужд и для безопасности города»[233] и берет в заложники детей горожан. Впрочем, коль скоро Херсон был частью Империи, характер его христианизации не представляет для нас специального интереса. Гораздо более важной и загадочной кажется нам личность Эфрема. Почему он вообще оказался в компании с крестителями Херсона? Ведь место, куда он был послан проповедовать, в разных изводах легенды именуется то как τα μέρη της Τουρκίας («области Туркии»), то как Ταυροσκυθών επαρχία («епархия тавроскифов»), то как «страны поганъския», то как «таврская земля»[234]. Видимо, речь шла о каких‑то варварах, живших поблизости от Херсона, в Крыму. Упоминание о Эфреме не относится к древнейшему пласту легенды: в славянском переводе, донесшем более раннюю ее версию, этого героя нет[235]. Видимо, он появился тогда, когда херсонский клир сам занялся миссионерством среди окрестных варваров, под которыми можно подозревать хазар.
От Херсона на восток тянулись земли, в которых византийский контроль распространялся не дальше цепи крепостейфакторий. Так, епископ Стратофил, сидевший на Никейском соборе от Питиунта, был, конечно, представителем греческого населения этого эмпория, а не христианизованных варваров. Тем не менее со второй половины V[236], а самое позднее со второго десятилетия VI в.[237] начинается массовая христианизация варваров, от Таманского полуострова на западе[238] до реки Риони на востоке. За пределами византийских крепостей, церковное строительство отмечено в местах расселения варваров: Цандрипше, Дранде, Цибиле, Нокалакеви[239]. Хуже сохранились, но тем не менее могут быть отнесены к тому же периоду храмы в Шапкы, Мрамба, Зиганисе, Сепиети, Ноджихеви, Вашнари, Петре[240]. Многие из этих церквей находятся в отдалении от моря и явно были рассчитаны не на подданных Империи, а именно на варваров. В некоторых из них обнаружены баптистерии, пригодные для крещения взрослых[241], из чего следует, что храмы явно были центрами миссионерства. Применение дорогих строительных материалов и высокое мастерство зодчих свидетельствуют, что строительство велось на имперский счет.
Наш главный источник письменных сведений о кавказском христианстве VI в. — светский историк Прокопий Кесарийский, придворный историограф императора Юстиниана. Самый тот факт, что данный автор, прямо заявляющий, что церковную историю он напишет как‑нибудь в другой раз (Procopii Bella, VIII, 25, 13), считает нужным тем не менее вдаваться в детали христианизации варваров, великолепно демонстрирует степень увязанности миссионерства с общеимперскими задачами. Между прочим, церковный историк конца VI в. Евагрий, рассказывая о тех же сюжетах, пересказывает Прокопия слово в слово.
Христианство на Кавказе ассоциировалось с византийским политическим влиянием — это легко понять, например, из следующего пассажа Прокопия: «Сей народ (ивиры — С. Я.) — христианский и соблюдает законы этой религии ревностнее, чем все люди, каких мы знаем — а ведь (μέντοι) они издревле являются подданными персидского царя» (Procopii Bella, I, 12, 3). Или такого: «Теперь там (на реке Фасис–Риони. — С. И.) живут люди, не являющиеся подданными ни ромейского, ни персидского царя, разве что (πλήν γε) им как христианам епископы лазов поставляют священников» (Procopii Bella, VIII, 2, 17). О таких качествах алан и авасгов, как «христианство» и «дружба с ромеями», Прокопий говорит через запятую (Procopii Bella, II, 29, 15).
Как Юстиниан понимал характер и цели государственного миссионерства, можно проследить на примере крещения авасгов (абхазов). Прокопий описывает его следующим образом: «В царствование… Юстиниана случилось так, что все у авасгов изменилось в сторону большей мягкости (επί τό ήμερώτερον τετύχηκε μεταμπίσχεσθαι). Ведь они приняли догматы христиан, и император Юстиниан, послав к ним одного из дворцовых евнухов по имени Евфрат, авасга по происхождению, категорически запретил их царям впредь оскоплять кого бы то ни было из своего народа… Тогда же император Юстиниан, возведя у авасгов храм Богородицы и поставив им (καταστησάμενος) священников, добился, чтобы они выучили все христианские правила (διεπράξατο απαντα αυτούς ήθη των Χριστιανών έκδιδάσκεσθαι). Авасги же, убив обоих своих царей, тотчас захотели жить свободно» (Procopii Bella, VIII, 3, 18—19, 21, ср. Euagrii IV, 22, p. 172).
Вскоре эта история получила продолжение: «Когда они, как я рассказывал выше, убили собственных царей, к ним прибыли в большом количестве ромейские военные, посланные императором. Они взялись присоединить их страну к ромейской державе и начали отдавать разные непривычные им приказания. И поскольку ромеи обращались с авасгами весьма насильственно, те страшно негодовали. Опасаясь, как бы им навсегда не стать рабами ромеев, они вновь поставили себе вождей… Разочаровавшись в добре, они снова приняли свои прежние верования, казавшиеся им ужасными, вместо новых, которые, конечно, показались им еще худшими. Опасаясь из‑за всего этого ромейских сил, они тайно переметнулись на сторону персов» (Procopii Bella, VIII, 9, 10—12). Этот эпизод очень ярко характеризует все этапы византийского «культуртрегерства»: Империя начинает вмешиваться во внутренние дела варварского племени, имея целью подорвать там влияние своего вековечного врага — Персии; на варваров оказывается политическое давление, имеющее, по видимости, цивилизаторскую окраску; попытка побудить варваров отказаться от их «диких» обрядов плавно переходит в христианизацию; она, в свою очередь, имеет следствием свержение власти, неразрывно связанной с языческой религией, а оттуда уже рукой подать до попытки завоевания. Важным следствием подобной политики, как видим, может стать не только взрыв антивизантийских настроений и переход на сторону противника, но и отказ от христианства, неизбежно ассоциирующегося с имперской экспансией.