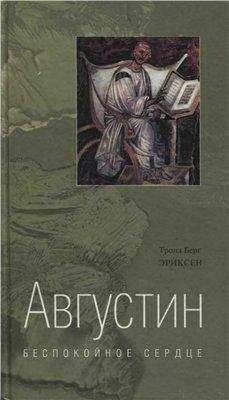Кажется, зимою 69 года на этом островке было видение «рабу Господню, Иоанну». — «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство (мученическое, martyrian) Иисуса Христа. Был же я в духе, в день воскресный, и услышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний. То, что видишь, запиши в книгу и пошли церквам“» (Откр. 1, 1 — 11).
Кто этот «раб Господень, Иоанн»? Кем бы он ни был, это во всяком случае, не «Пресвитер Иоанн Эфесский», один из вероятных творцов IV Евангелия.[95] Чтобы в этом убедиться, стоит лишь сравнить довольно правильный, греческий, простонародный, общий язык, koiné, евангелиста Иоанна с полугреческим, полуарамейским языком творца Откровения. Так же легко убедиться, что этот «Иоанн» — не один из двух сынов Зеведеевых, — «ученик, которого любил Иисус». Тот Иоанн казнен, вероятно, вместе с братом своим Иаковом, Иродом Агриппой I, в 40-х годах, — во всяком случае до «Апостольского собора» в Иерусалиме, так как на нем не присутствует, что невозможно, конечно, если бы он был жив (Д. А. 12, 1–2, 15)…
Не могло не исполниться и слово Господне, сказанное обоим братьям вместе: «Чашу, которую Я пью, будете пить», — чашу смерти мученической (Мк. 10, 39).
Кто же этот «Иоанн», неизвестный творец Апокалипсиса? Если «исповедник», «мученик», как он сам себя называет, то во всяком случае не до конца, не до смерти, мученик; может быть, один из тех, кто услышал слово Господне: «Выйди (беги), народ Мой, из нее (из Рима; Rome he porne, „Рим — Блудница“), чтобы не участвовать вам во грехах ее и не подвергнуться язвам ее» (Откр. 18, 4). Что этот Иоанн — беглец из Рима, тем вероятнее, что о. Патмос — первая гавань на пути из Эфеса в Рим, последняя — из Рима в Эфес, где уцелеет самое живое предание о двух «Иоаннах», Апостоле и Пресвитере; и тем еще вероятнее, что в книге этой самый воздух — тот же, что в Риме тех ужасных, августовских дней 64 года: запах звериной клетки-логова, как на арене цирка, и ангельских кадильниц фимиам, как в видениях мучеников, и сладострастно-благоуханный смрад от тела «Великой Блудницы»; а надо всем — голубовато-знойная мгла Римской malaria, — горячешный жар и бред, — «огненного искушения ужас», гарь человечьего мяса, как от горящих людей-факелов, в садах Нерона. Книги этой не написал бы тот, кто не дышал сам этим воздухом, кто своими глазами не видел «царства Зверя».
LXXX
Кем бы ни был «Иоанн» Апокалипсиса, он, в противоположность «евангелисту Иоанну», — злейший враг Павла, который является здесь под видом «лжепророка Валаама» (2, 14) и «лжеапостола» (2, 9; 3, 9). «Павел — Симон Волхв», с которым в Риме борется и которого побеждает Петр; Павлово «восхищение до третьего неба» — полет Симона Волхва, — с этим толкованием Псевдо-Климента (150–160 гг.) согласился бы, может быть, и тайновидец Патмоса.[96] Будут, и в этом толковании, низвергнуты в ад оба, Павел и Симон Волхв.
Злейший враг Павла — Иоанн Апокалипсиса, и Рима тоже — враг злейший.
«Яростным вином блудодеяния своего она (Римская Блудница) напоила все народы» (Откр. 18, 2). — «Кровью святых упоена и кровью мучеников Иисусовых» (17, 6). «За то, в один день, придут на нее казнь и смерть, и будет сожжена огнем» (18, 8). «Воздайте ей так, как она воздавала вам, и вдвое воздайте ей, по делам ее» (18, 6). «Сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг его в море, говоря: „с таким стремлением повержен будет Вавилон (Рим), великий город, и уже не будет его“» (18, 21). «Пал, пал Вавилон, Великая Блудница!» (18, 2) «Возрадуемся и возвеселимся!» (19, 7).
Гибель всего, что мы называем «культурой», «цивилизацией», и если не всего, то многого, за что Павел благословляет Рим, как «власть от Бога» (Рим. 13, 1), — для Иоанна Апокалипсиса есть торжество Иисуса.
LXXXI
Если самая радостная из всех, в мире бывших и, вероятно, будущих книг, — Евангелие, то самая страшная, — Апокалипсис. Ужас ее — в небывалом нигде, никогда, сочетании математики с тем, что нам кажется «бредом безумья», геометрически точной меры — с безмерностью. Тайна Истории — времени есть и тайна Апокалипсиса — вечности: тáк было, тáк будет; было, в начале и в продолжении мира, — будет, в конце.
«Здесь — мудрость. Кто имеет ум, сочти число Зверя, ибо это число человеческое; число его — шестьсот шестьдесят шесть» (Откр. 13, 18). Вот и для нас все еще, или уже, неотразимое совпадение внешнего, исторического, и внутреннего, религиозного, опыта: две непреложно-точные, математические меры: человек — Зверь, человек — Бог; цель Истории — царство Зверя, или царство Божие.
В этом и Павел согласился бы с Иоанном Откровения, так же как с Петром.
LXXXII
Кажется, в Риме, после бегства Петра, была такая минута, когда все будущие судьбы Церкви, а следовательно, и всего христианского человечества зависели от одного Павла: вынесет ли он или не вынесет, один из всех, всю тяжесть Креста? Вынес, — «Христу сораспялся» воистину (Гал. 2, 19); больше, чем на себя поднял, — принял на себя, так же как Иисус, весь грех, все проклятие всего человечества: сам сделался «грехом», hamartia (II Кор. 5, 21), и «проклятием», katára, за нас всех (Гал. 3, 13).
Чтó дало ему нужную для этого силу, чтó спасло? Кажется, то самое, что может спасти и все христианское человечество. В тот последний миг, когда меч уже сверкнул над головой Павла, он, может быть, вдруг понял, как еще никогда не понимал, величайшую тайну всей жизни своей и почувствовал, как еще никогда не чувствовал, ту радость, которой некогда был и будет сейчас «восхищен до третьего неба»; тайна человеческой свободы есть тайна Божественной Необходимости, — Предопределение, próthesis: «будет Бог все во всех, — все спасутся».
Понял, в эту минуту, первый святой, Павел, то, чем может спастись и последний из грешников, — что самый святой из святых и самый грешный из грешников — он.
Этого уже никто никогда не поймет так ясно, как Павел, это поймет, через четыре века, почти так же ясно только один человек — св. Августин.
I
«Голос мой умолкает, и слова мои заглушаются рыданиями…
Город, победитель мира, побежден; столица Римской империи опустошена пламенем, и граждане ее бегут во все концы мира». — «Светоч мира погас, и, в одном павшем городе, погиб весь человеческий род», — пишет св. Иероним из Вифлеема в 410 году, при первом известии о взятии Рима варварскими полчищами Алариха.[97]
Плачет, почти без слов, на одном конце христианского мира, в Азии, у колыбели Христа, в Вифлееме, один из двух великих учителей Церкви, а на другом конце, в Африке, в городе Гиппоне, у Средиземного моря, колыбели христианства, другой великий учитель, в те же дни, при том же известии, не плачет, или не хочет плакать: «Слишком скорбеть не будем о погибших (в Риме), ибо радуются ныне души их, на небе, что избавились, наконец, от всех бедствий земных». — «Да и так ли уж трудно великому сердцу сохранить спокойствие, видя, как рушатся камни, падают бревна, и умирают смертные?»[98]
Но это спокойствие, кажется, только наружное, — ответ закоренелым язычникам, хорошо помнящим недавние дни Юлиана Отступника и, может быть, тут же, в Гиппонской базилике, в толпе Августиновых слушателей, шепчущих злорадно: «Уж лучше бы он о Риме молчал! О sui taceat de Roma!.. Все эти бедствия миновали бы нас, если бы все еще приносились жертвы богам».[99] Кажется, это спокойствие есть разумный ответ не только язычникам, но и малодушным христианам, слишком поверившим безумному горю св. Иеронима: «Весь род человеческий погиб в одном городе». Знает, может быть, и Августин, что значит для мира падение Рима, и слезы его, остановившиеся в горле, может быть, горячее пролитых слез Иеронима.
«Пал, пал Вавилон, Великая Блудница!» — «Возрадуемся и возвеселимся!» — этого, во всяком случае, уже не повторил бы, с тайновидцем Патмоса, ни тот, ни другой; «будем молиться, да приидет Господь и разрушит мир», — не повторили бы они, и с Оригеном, этого::[100] надо еще миру долго быть, — это они уже поняли оба, и оба, вероятно, согласились бы с Павлом: «Ныне вы знаете, что не допускает открыться ему (Антихристу)… ибо тайна беззакония уже совершается; но не совершится, доколе удерживающий, ho katechon, не будет взят от среды» (II Фее. 2, 6–7). Этот неназванный, таинственный, «Удерживающий», — по обычному толкованию, не кто иной, как миродержавный, некогда языческий, а ныне христианский, Рим. Вот почему конец Рима для обоих есть первый шаг к кончине мира.
II
Знает Августин, — знаем и мы сейчас, что значит родиться если не в конце мира, то в конце одного из миров, — в щели Истории, между двумя веками-зонами, двумя жерновами мелющими, — между тем, что еще не умерло, и тем, что еще не родилось, — двумя кругами той восходящей или нисходящей лестницы, которую мы называем «мировым развитием», «эволюцией»; что значит родиться перед «Нашествием варваров». Этим-то Августин и близок нам, ближе, может быть, всех святых, после Павла, жившего и умершего в еще более тесной щели между веками-зонами, перед еще более грозным Концом.[101]