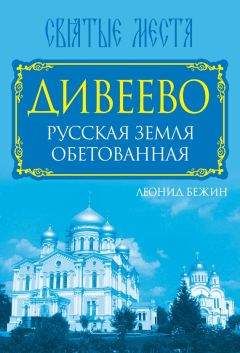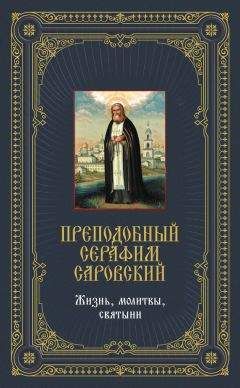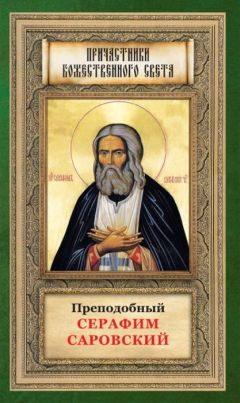Ознакомительная версия.
– Нет, не напишу.
Но мельник сам вложил ему уголек в пальцы.
– Напишешь. Умирать-то кому охота.
И подмигнул ему улыбчиво – так, словно меж ними все уже было решено и улажено.
Глава семнадцатая. Письма разорвать нельзя
Мельник сдержал слово, Георгий выздоровел, пугающий призрак смерти растаял, рассеялся в воздухе, для него снова засияло солнце, словно омытое и обновленное отшумевшими грозами, заблестела матовым серебром роса, зашелестела листва, запели и засвистали на разные голоса птицы. Но радовался он этому недолго, поскольку его стала мучить другая болезнь – раскаяние. Георгия неотступно преследовала мысль, что совершил он нечто ужасное. Со всей остротой он стал осознавать, что телесно-то он излечился, а вот душу свою погубил, а это, может быть, еще страшнее. Как же спастись? Исповедаться и покаяться, но перед кем? Кто возьмет на себя тяжкое бремя – отпустить такой грех? Странствуя по монастырям, Георгий искал – пытливо всматривался, мысленно оценивал, прислушивался к словам, примерялся. Разные ему встречались духовники, и седые как лунь, бледные от постов, почти бесплотные, и, напротив, тучные, упитанные, раздобревшие, краснолицые, но ни на ком он не решался остановить свой выбор. Лишь только покажется ему кто-то годным, как воображение тотчас рисует: услышав его исповедь, этот еще больше побледнеет, и у него затрясутся руки…, у этого на лбу выступит пот и задергается щека…, этот онемеет и выпучит оловянные глаза. Подступало отчаянье, и он готов был подумать, что суждено ему вечно скитаться, как Каину, убившему Авеля.
И вот тут-то повстречался ему казначей Иосия. Едва заговорив с ним, Георгий сразу смекнул, что тот ищет опору в преданных и надежных людях, и поэтому прикинулся раболепным, угодливым, слабым и жалким, готовым присягнуть и верно служить – таким, каким и был ему нужен. Но и Иосия ему нужен таким, каким он был, – властным, своенравным, крутым на расправу, но и щедрым на ласку. А главное, способным отпустить любой грех, лишь бы это не было изменой ему самому: измены он не простил бы. Иначе говоря, не беда, что грешен, – лишь бы был целиком и полностью свой. И даже более того: иной грешок и полезен тем, что позволяет держать в коготках, как кошка держит пойманную мышь: сколько ни пищи, не вырвешься.
Словом, руки у Иосии не задрожали бы и щека не задергалась.
И Георгий на исповеди открылся. Открылся с замиранием сердца, накатывающими волнами панического страха: что-то теперь будет? Не сказать чтобы исповедник и бровью не повел – нет, от услышанного Иосия судорожно сглотнул, поперхнулся, а затем долго откашливался, содрогаясь всем телом: все-таки и его проняло. Но Георгий сразу почуял, что в конце концов грех этот исповедник покроет, спишет, хотя и надо ему, конечно, показать, как много берет на себя при этом. Показать, чтобы знали и помнили, в каких у него должниках…
Представим себе и попытаемся в нескольких штрихах набросать эту сцену.
– Письма, письма! – потребовал Иосия, морщась половиной лица и тряся рукой так, словно выражаемое им нетерпение и досада вызывались желанием тотчас, немедленно получить то, о чем он просил. – Дай-ка их сюда.
– Они у меня спрятаны в келье. – Вместо того чтобы броситься за письмами, Георгий застыл на месте, словно ему не хватало побуждающего взгляда, окрика или даже пинка.
– Так неси же! – закричал Иосия, не понимая, чего тут еще можно ждать и медлить.
Георгий и сам удивился, что еще не выполнил столь грозного повеления. Через минуту он вернулся с письмами в руках.
– Вот, отче… – Второпях даже запыхался, часто дышал.
Тот бегло глянул. Местами было неразборчиво, да и уголь стерся, но главное он все-таки разобрал.
– Да, отречение. Иначе не назовешь. От Христа отрекся, бес! – Он сжал кулак и, не находя ему другого применения, ткнул Георгия куда попало, в лоб, плечо, грудь.
– Нечистый, нечистый попутал. – Георгий попытался поймать и поцеловать казначею руку.
– Разорви на клочки, уничтожь. Немедля.
Иосия отдал ему письма и отвернулся, чтобы не видеть того, что будет сейчас же выполнено.
– Нельзя, – в спину ему на отчаянно-плаксивой ноте произнес Георгий.
Тот, не поворачиваясь, сухо спросил:
– Почему?
– Бог меня теперь не защитит, а дьявол накажет. Накажет до смерти. Так мельник сказал. Велел хранить письма-то. Хранить как зеницу ока.
– И то верно. Разорвать так просто нельзя. – Иосия повернулся и снова взял письма в руки. – Тогда вот что… грех я тебе отпускаю, что будет заверено грамотой, документом, который мы вместе с письмами спрячем. Спрячем в святом месте, под алтарем, чтобы Бог видел. Может, и он тебя, поганца, простит. Ведь поганец же?
– Поганец, поганец, – радостно согласился Георгий.
– И с таким поганцем я теперь повязан. Такое на себя взял. Смотри у меня. Если предашь…
– Никогда, отче. Вовек милости твоей не забуду. – Георгий все-таки изловчился, поймал и поцеловал.
– То-то же…
– Отче… – Георгию оставалось разрешить еще одно, последнее сомнение, – а может, вместо документа епитимию наложишь, поклоны заставишь бить, от церкви отлучишь на год?
– Нет, от церкви не отлучу. Ты мне нужен. Да и слаб ты, больно хлипок для настоящей епитимии, не сдюжишь. – Тут Иосия задумался о чем-то своем, вплотную наклонился к Георгию и перешел на свистящий шепот: – Нам другой вопрос надо решить, поважнее…
Странник. На пути в Саровский монастырь
Иосия и Георгий еще долго шептались, решая действительно очень важный, но при этом тонкий и щекотливый вопрос: рассказать или не рассказывать обо всем настоятелю Иоанну. Тут важно было не ошибиться, не промахнуться, выбрать верную тактику, учитывая всю сложность отношений между казначеем и настоятелем, их скрытое соперничество при явном старшинстве Иоанна. Поэтому все рассказать, выложить всю подноготную означало бы для Иосии уронить себя, свое достоинство, да и к тому же признать правоту Иоанна, недовольного тем, что без его ведома, самочинно Георгия приняли в монастырь. Уронить и признать – это, конечно же, недопустимо. Но и не рассказывать тоже нельзя, поскольку дело нешуточное, очень серьезное и когда-нибудь (все тайное становится явным) у настоятеля будет повод упрекнуть казначея в пагубной, а то и преступной скрытности.
Да это и неразумно – скрывать и утаивать, если есть другая возможность: рассказать, но так, чтобы самим извлечь из этого какую-то пользу и выгоду. Пусть Иоанн знает, но не все, а лишь то, во что они его посвятят. На что осторожно намекнут. Что ему слегка приоткроют, но не больше того. Вот и получится, что Иоанн знает (долг перед ним выполнен), но и не знает (свои интересы соблюдены). В этом-то вся хитрость…
И особенно им на руку то, что Георгий все-таки сумел расположить к себе настоятеля. Уж как это ему удалось, загадка, но – сумел. Взял своей начитанностью, образованностью, шляхетским воспитанием, хорошими манерами, привычкой шаркать каблуками на паркете, и тот поручил ему собирать и переписывать книги для библиотеки. Поэтому Георгию будет нетрудно выбрать момент и в самых расплывчатых, туманных выражениях, не показывая никаких писем, поведать о своем давнем грехе. Мол, когда-то… Мол, что-то такое было… Пусть…это для них не вредно, а даже полезно. Если бы настоятель знал все, они были бы полностью в его руках. Но раз он знает лишь кое-что и не больше, это делает его от них зависимым. Можно сказать, повязанным с ними, хотя он, наивная и добрая душа, и не подозревает об этом.
Глава восемнадцатая. Грех покрыл незаконно
Все вышло так да не так. Повязать-то они повязали (разговор у Георгия с Иоанном был, и кое в чем он ему признался), но другая завязка ослабла, и узелок на ней лопнул. Иосия по многим едва различимым признакам стал чувствовать – чуять своим звериным нюхом, что Георгий постепенно отдаляется от него, предает, изменяет и переходит на сторону Иоанна. Поначалу он отказывался в это верить, убеждал себя, что все это вздор, выдумки, плод его излишней подозрительности. Так ведь часто бывает: то, что где-то мелькнуло, замерцало, замаячило, потом всюду мерещится, лезет на глаза, цепляет, словно колючка репейника. Но навязчивое чувство не покидало, и все, что он замечал, свидетельствовало в пользу сделанного беспощадного вывода: отдаляется и переходит.
Да, как ни убеждай себя, отдаляется, изменяет и…вот-вот окончательно переметнется в стан врага.
Внешне Георгий был по-прежнему почтителен, выдержан, преисполнен смирения, готовности угодить, но и готовность была слабенькая, лишь напоказ, и какой-то холодок проскальзывал в нем – особенно после того, как он слишком надолго задерживался, допоздна засиживался у настоятеля. Поводом были все те же проклятые книги: очень уж они их оба любили, ну просто обмирали по ним; увидят какую редкую – аж задрожат. О книгах же как не поговорить – утеха, и во время этих разговоров стало обнаруживаться то душевное родство, совпадение чувств и помыслов, из-за которого Георгий так и потянулся к настоятелю (вот уж воистину потянулся, как телок к матке). С Иосией у него такого родства и совпадения не было: была благодарность, подобострастие, страх перед крутым нравом и сильной рукой, женственная потребность подчиняться власти, а тут… мятущаяся, противоречивая, надломленная натура Георгия словно находила успокоение в близости тихого, кроткого, доброго и ласкового Иоанна.
Ознакомительная версия.