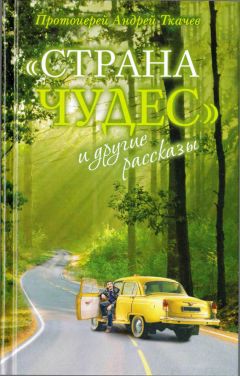После всенощной я еще раз подошел к нему и разговорился. Константин – а это был он, – хотя и выглядел уставшим, охотно поддержал разговор. Мы сидели у храма на скамейке и до темноты говорили о литургии, о святых отцах, о прожитой жизни. В тот вечер он и рассказал мне кратко историю своих поисков и своего обращения. Когда стало совсем поздно, он предложил мне заночевать в церковном доме.
– У нас возле просфорни есть комната для гостей. А в просфорне работаю я и с субботы на воскресенье в ней ночую.
Я с радостью согласился.
– Увидимся завтра на литургии, – сказал Константин и пожелал мне спокойной ночи.
На следующий день мы увиделись, но так и не поговорили. На службе было много людей. Константин уже не сидел за свечным ящиком, а прислуживал в алтаре, выходил со свечой на входе и читал Апостол. Когда служба закончилась и, поцеловав крест, люди стали выходить из церкви, я увидел его. Он стоял на церковном дворе напротив пономарки и разговаривал с молодой женщиной. Левой рукой женщина легко покачивала коляску, в которой спал симпатичный богатырского вида мальчуган, а правой обнимала девочку лет шести. Они разговаривали о чем-то важном, и я не хотел им мешать.
С тех пор мы не виделись. Дела мои решились, и я уехал из старинного города, который, честно говоря, мне не очень понравился. Уже в поезде, отправляясь домой, я захотел записать историю молодого человека, что я и поспешил сделать. Конечно, что-то забылось, а что-то ускользнуло от внимания, но в целом история его мне показалась интересной, и не хотелось предать ее забвению. С тех пор прошло лет пятнадцать. И вот недавно, разгребая бумаги, я нашел свою рукопись. Она истрепалась и пожелтела, а первое предложение – «День обещал быть жарким» – было написано как будто куриной лапой: в это время поезд тронулся, и ручку сильно повело по бумаге.
Я вспомнил об этом и улыбнулся.
Имя продолжает греметь, когда владельца имени уже еле слышно. Так доктора могут пригласить для консультации в монаршую спальню, и он зайдет туда на цыпочках, но вместо грозного повелителя может увидеть заострившееся от предсмертной болезни испуганное лицо, чуть высунувшееся из-под одеяла.
Точно так позвали священника к режиссеру, которого тяжкий недуг уложил в постель. Позвали, чтобы причастить больного, хотя даже глоток воды тому уже давался с болью. Стены были густо увешаны фотографиями той поры, когда нынешний больной повелевал армией операторов, сценаристов, гримеров и артистов; когда он выжимал из них необходимые соки, а из соков этих готовил интеллектуальный коктейль – зрелище, зафиксированное пленкой. Там, на фотографиях, он был энергичен, уверен в себе, целеустремлен. Там он вызывал уважение и скрытую зависть. А здесь, под одеялом, он был мал, сух, измучен. Здесь он вызывал только сострадание и желание вспомнить строчку из Екклесиаста.
Уже потом, задним числом, священник срифмовал эту встречу с чеховским «Архиереем». Там ведь тоже болезнь не брала в учет социальный статус и расхожие представления о величии. Взяла да и свалила в постель викарного владыку. Тот «очень похудел, побледнел, осунулся, лицо сморщилось, глаза были большие, и как будто он постарел, стал меньше ростом, и ему уже казалось, что он худее и слабее, незначительнее всех, что все то, что было, ушло куда-то очень-очень далеко и уже более не повторится, не будет продолжаться». И здесь было нечто подобное.
Притом архиерей и режиссер, как ни крути, похожи. Оба влияют на сознание масс, оба занимают совершенно разные, но ответственные и руководящие должности. Оба – генералы мирных времен. Пока каждый из них в фаворе, с ними трудно говорить по душам. Хотя бы потому, что до них просто трудно добраться. И лишь когда случится нечто, переводящее их из элиты в строй рядовых, можно и посидеть рядом, и подержать их за руку, и поговорить о чем-нибудь нейтральном.
* * *
Священника позвали причащать больного, а значит, и исповедовать его. Может быть, впервые в жизни, а может, спустя многие-многие годы от последней исповеди. И все это в ситуации, когда человек и говорит уже с трудом, еле слышно. Пытать допросом человека о содеянных грехах в это время просто бесчеловечно. А что делать?
Простая мысль пришла на ум батюшке.
– Я вам почитаю Евангелие. Хорошо?
Больной закрыл глаза и вновь открыл, что, по всей вероятности, заменяло утвердительный кивок головой. Библию не пришлось долго искать, хозяйка была религиозна. И они стали читать. Вернее, священник стал читать, не громко, но внятно и не спеша, сидя вполоборота к больному и на него не глядя. Читал из Иоанна, начиная с восемнадцатой главы, от взятия Иисуса под стражу.
Эти строки, сколько их ни читай, всегда читаются впервые. И про то, как Иисус сказал «это Я», а воины упали в страхе; и про то, как Петр, перепуганный и разгоряченный недавней схваткой, поспешно отрекался от Учителя. Если читаешь с умом и не спеша, то часто почти проникаешь в ту густую и тревожную, неповторимую атмосферу, в которой Иисуса водили и к Пилату, и к первосвященнику, и к Ироду, и выводили к народу, все время спрашивая что-то, добиваясь чего-то. А ведь все уже было решено и песок в невидимых часах убегал, приближая развязку.
Священник читал и боялся думать о том, слушает ли больной. Священнику и самому было сладко читать драгоценные строки, но в этот раз он читал их не для себя. Что, если больной уснул, что, если он устал от всего и хочет, чтобы его оставили в покое? Вот и дыхания его не слышно. Но чтение продолжалось.
Вершился людской суд над Богом. Звучали странные слова: Лифостротон, Гаввафа. Голгофа, нешвенный хитон. Иисус с Креста усыновлял Иоанна Матери, и просил пить, получая в ответ на просьбу уксус, и, преклонив главу, предавал дух. А воины с поспешностью ломали кости разбойникам и били копьем в ребра уже умершего Мессию. Сверху их кропила кровь и вода. Затем Никодим с Иосифом, преодолев страх, вошли к Пилату и просили тело. Затем было погребение.
Две главы читались минут десять. За это время на глаза священнику раз или два наворачивались слезы, но он откашливался и продолжал читать без эмоций. Когда дошли до утра нового дня, то прочли только про Магдалину. И так все было ясно. Все опять было ясно – Он воскрес. «Иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему».
На этих словах священник сказал «аминь», поцеловал лист и закрыл книгу. Потом он не спеша, но с опаской повернулся и посмотрел на больного. Тот был внимательно собран, лежал с открытыми глазами, и в глазах стояли слезы. Несколько слезинок стекли на подушку и оставили на наволочке маленькое пятно. Одна слеза стекла было по щеке, но задержалась в седой щетине. Не меняя положения тела, больной стал что-то шептать. Священник приблизил ухо к его устам и услышал очень тихое и очень слабое: «Спасибо вам».
* * *
Причастие было на следующий день. А вскоре после причастия было и отпевание.
Еще одна душа переступила грозную границу между мирами и начала свое собственное и неповторимое загробное существование. Свой прах, измученный и истощенный болезнью, душа оставила на малое время родным для оплакивания, а потом этот прах вернут праху до дня всеобщего воскресения. Во все это за свою жизнь священник вовлечен так часто, что большого набора альтернатив у него нет. Протоптаны лишь два пути: очерстветь окончательно или стать святым.
Человек же, не желающий черстветь, но и к святости не чувствующий решительного позыва, должен чем-то утешаться в своем зависшем состоянии. Лучше, если книгами.
Существование книг есть одно из доказательств человеческого бессмертия, а возможность найти себя или свою жизненную ситуацию на страницах чужого труда и вовсе сродни волшебству. В тот день, когда священник преподал больному причастие и ушел, как хорошо было бы, чтобы больной чувствовал себя так же, как чеховский архиерей. И тот и другой были большими и значимыми. Но потом вдруг стали маленькими и беспомощными. Но когда уже все смотрели на них, утирая глаза и разговаривая шепотом, они внутри себя обрели новый простор и иную свободу.
У Чехова так и сказано: «Он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно!»
Ты спрашиваешь, почему я грущу? А когда ты видел меня веселым?
Понимаешь, у меня умер друг. Я и не думал, что он мне так дорог. А вот позвонил ему, а детский голос отвечает: «Папа умер». Я где стоял, там и сел и заплакал. Валера умер! Не могу представить его бездвижным. Не могу представить гранитный памятник с его фотографией, на которой он улыбается.