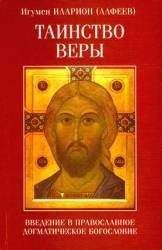Сегодня в наиболее интенсивной форме именно в православии, приведенном историей к «необходимому единственному», осуществляется расцвет подлинного «евхаристического сознания». Укорененное в практике причащения, которое для наиболее пламенных православных стремится стать еженедельным, ежевоскресным, это сознание превращает христианина в «литургического человека», который пытается обнаружить в сердце существ и вещей ту точку прозрачности, откуда можно заставить засиять свет славы. Для такого «евхаристического сознания» профанное, в статическом смысле слова, не существует, — стоит только из профанного изгнать бесов и преобразить его… Через молитву, предстояние, смиренную и активную любовь тех, кто общается с миром святости, огонь евхаристии пожирает и истребляет историю и вселенную. Тем самым намечается и подготавливается парусил, когда Богочеловек откроется как Бог — человечество и Бог — вселенная. Это «евхаристическое созревание» может проявиться и в творческом усвоении культуры, но всегда в хрупкой форме, может быть более внешне значимой, нежели сакрализирующей. В конечном счете, его тайна ускользает от земных мерок, и только возвращение Христа откроет его плодовитость…
Тем не менее Бог дал Православной церкви в XX веке великий знак преображения: таково было в России периода между двумя войнами возрождение иконы. Медленно, день за днем, часто перед тысячами свидетелей, старые почерневшие иконы обновлялись, оживали вновь словно при помощи прикосновения света. Часто свет омывал внутреннюю поверхность куполов над молящимся народом… На протяжении столетий сияние преображения было неоднократно: но в XIX веке оно озаряет одинокую фигуру святого, тогда как в веке XX это сияние окружает нимбом церковное, евхаристическое собрание и отражается в иконах присутствием общения святых. Это знак того, что в наше время святость должна вновь обнаружить свои церковные корни, что она принадлежит к Церкви — телу Христову и месту обновленной пятидесятницы, и что личная святость есть всего лишь более сознательное участие в великом церковном общении…
Именно исходя из этого, можно объяснить некоторые новые формы монашеской жизни, которые, будучи полностью укоренены в традиции непрестанной молитвы, ориентированы на смиренное и в то же время действенное присутствие в мире… Великий «духовник» Патмоса, отец Амфилохий, в последние годы руководил на окрестных островах основанием маленьких женских общин, члены которых участвуют в ежедневном богослужении и практикуют молчаливую молитву, и при этом занимаются катехизацией, пытаются по–настоящему улучшить вокруг себя положение женщин.
В Румынии монастырская реформа, осуществленная патриархом Юстинианом и принесшая свои плоды между 1950 и 1958 гг., ввела в монашеский устав обет «служения Богу и служения ближнему». С одной стороны, речь идет о возвращении к исихастским источникам, о чем я говорил выше. С другой же — это тенденция преобразить монастыри в центры интеллектуального и физического труда, а также социальной помощи, интегрируя их в общины наподобие кооперативов… Речь идет о том, чтобы, вовлекая в молитву непросвещенные или бунтующие души, вернуть христианству узурпированное марксизмом достоинство труда, но придав ему характер «мистического труда преображения и обожения природы». Это движение было пресечено правительством в 1958—1960 гг., некоторые монахи попали в тюрьму, других заставили работать на производстве. Аналогичные случаи происходили и в России. Но здесь умножилось число «тайных монахов», исполнявших, во Христе, «сошествие в ад», живших и работавших в миру. Прозрение Достоевского, который показывает нам старца Зосиму, отправляющего Алешу Карамазова в мир, оказывается пророческим. «Внутреннее монашество», вынужденно практикуемое в православном рассеянии, распространившееся и в странах Восточной Европы в результате репрессий, о которых мы только что вспомнили, существует сегодня и как свободное решение великих духовников, просящих своих учеников быть в мире, полностью оставаясь людьми молитвы, тишины, значимого присутствия.
В качестве заключения, — но это заключение одновременно также введение, — я хотел бы привести мнение одного из моих друзей, православного монаха, которого я расспрашивал именно о святости XX века… Эта святость, сказал он, призвана в полной мере открыть свой источник — Святого Духа, — всегда нести более прямое свидетельство о присутствии и личности Святого Духа… Святой становится, — снова становится, — эсхатологическим знаком, знаком страдания Христа и Его славы. Он несет в себе более тайну, нежели внешний успех. Святость превращается в силу собирания тела Христа, двигатель преображения мира, и прежде всего сопричастности людей. Она отвечает на кенозис, — можно было бы даже сказать, на страдание, — Святого Духа, который молится в нас, вздыхая: «Авва, Отче».
Святой, как преимущественно литургическое существо, свидетельствует о непрестанном прославлении Бога жизнью и творчеством человека. Предельная форма, к которой стремится это свидетельство, — это состояние молитвы, прозрачности к божественному присутствию и преображающему действию. Но прежде всего эта святость — пасхальный знак, живой призыв господства Христа воскресшего и присутствия Святого Духа в мире. Его послание является посланием Церкви в ее эсхатологической вере: мир и его история предназначены к тому, чтобы войти в полную реальность Бога.
Традиция восточного христианства исходит из откровения о том, что недосягаемый Бог переступает через свою собственную трансцендентность, чтобы отдать себя миру, воплотиться, сделаться доступным для общения, и у Бога есть много имен, которые венчает имя Иисуса. Однако одним из наиболее любимых в этой традиции имен является красота. Красота — это поистине божественное имя. Дионисий Ареопагит в своем Трактате о божественных именах прославляет красоту, «которая производит всякую сопричастность» [37]. Бог сам в себе является полнотой красоты, красотой красоты, можно было бы сказать, в нераздельно онтологическом и личностном смысле: в Нем, действительно, существо сияет из глубины любви, взаимного дара личностей, которые отдаются единству. Знаменитая икона Троицы Андрея Рублева символизирует это «неподвижное движение любви». Эта красота производит всякую сопричастность, поскольку она сама рождается от сопричастности. На этой иконе круг, в который вписаны три ангела, имеет своим центром жертвенную чашу. Ритм изогнутых линий, обрисованных крыльями и руками, говорит о тайне, где одного не бывает без другого, и все словно пронизано музыкой тишины. Слава течет, как река красоты, от Отца, через Слово, в Духе, являющемся тишиной в сердце слова, накалом в сердце красоты. Множественное единство, обозначаемое библейским именем Элохим, хорошо говорит об этом расширении тринитарной полноты, в некоем экстазе Бога в красоте.
Бог творит мир как место своего воплощения; мир, говорит св. Максим Исповедник, призван стать, в этом божественном пламени, неопалимой купиной. Неопалимой купиной в пространстве, литургией во времени… Бог создает свою симфонию за шесть символических дней, и в конце каждого действия Он благословляет мир: «тов», — говорит Он, что нераздельно означает одновременно «хорошо» и «красиво» (Септуагинта переводит: Kalon, а не agaqon), т. е. «прекрасный, а не «благой».
Итак, у самого незначительного из творений есть небесные корни, Бог говорит с нами во всякой вещи, во всякой вещи звенит Его слово, логос Логоса, у которого есть свой способ участия в свете, так что каждое создание по–своему выражает, самим своим существованием, божественную красоту.
Каждая вещь в том, что у нее есть самого тайного и самого очевидного (тайна — в очевидности), заключает в себе точку прозрачности для света. Русские софиологи подчеркнули эту «софийность» существа, эту таинственную девственную женственность, избранное вместилище божественной Премудрости.
«Видимые вещи углублены через невидимые», — говорит св. Максим Исповедник в своей Мистагогии [38]. Логос проявляется в этом видении видимых вещей через невидимые, поскольку великая игра Бога интегрирует сотворенное во все более сложные ясные структуры. Дух является животворящим дуновением, ведущим все вещи к их исполнению в красоте. «Дух заставляет различные образы стремиться к их полноте и красоте», — говорит св. Ириней Лионский [39]. Тайна открывается, но при этом всегда оставаясь по ту сторону. Сверхсущностная тайна заключается в самом появлении, в «трансвозникновении» существ и вещей. Таким образом, по отношению ко мне мир более не является внешним, он больше не гробница и тем более не энергия для потребления, не бесконечный ряд причин и следствий, не механика необходимости и случайности, которую нужно разобрать и овладеть ею. Это дар, благодать, язык, на котором меня призывает Бог, на что я должен ответить, «давая имена живущим», согласно заповеди Бытия, то есть открывая их духовные сущности. Так, аскеты христианского Востока практикуют qewria fusikh — созерцание природы, освобождающее от иллюзии и обнаруживающее символы. Я думаю о той юной девушке, которая, читая Добротолюбие, или, по–гречески, Филокалию (что означает любовь к красоте) и будучи заинтригована выражениями: «созерцание природы», «знания существ», искала мудреца, который мог бы их ей объяснить; наконец она встретила отшельника, сказавшего ей: «Послушай, возможно, дело вот в чем: было начало зимы, я молился в своем сердце, вдруг я поднял глаза и через вот это маленькое окно увидел, как падают первые хлопья снега, — тогда я понял снег». Все, что есть в мире, оказывается словом и образом первоначального, а первоначальное требует нашего любящего и сознательного свидетельства, освобождающего немую молитву вещей. NhyiV — трезвение, пробуждение, бодрствование, — это новое открытие утерянного рая и предвосхищение Царства во Христе и Святом Духе. Человек стремится к красоте, и этот порыв глубоко ему «естественен». Его природе, говорят отцы церкви, присущ поэтический логос, поскольку само дыхание Бога пробуждает его к жизни, пробуждает его собственное дыхание. Человек призван стать освободителем или творцом красоты, возвращая ей сходство с образом Божьим, который есть ее основание и призвание. Вся наша жизнь есть путь от образа к подобию, а подобие есть сопричастность. Совершенная красота не биологический взрыв, каким может быть зов плоти у юных существ; совершенная красота поднимается из разбитого сердца, из сердца, утешенного Утешителем. Святой освобождает осколки святости, искры, одновременно скрываемые и выявляемые вещами. Если каждая вещь держится лучом божественного Логоса, человек отражает этот Логос с наибольшей полнотой, как сознающая личность, и, следовательно, именно ему надлежит придать смысл и слово немому славословию мира. Патриарх Константинопольский Афинагор говорил мне: «Когда приходит февраль, я жду, что зацветет миндальное дерево во дворе патриархата, так что я спускаюсь, чтобы присоединиться к этому славословию, к песне прославления этого миндального дерева». Так и мир призван, через человека, стать образом образа. В этой перспективе прекрасное не является отдельным статусом. Николай Бердяев писал: «Красота есть характеристика высшего качественного состояния бытия, высшего достижения существования, а не раздельная сторона существования. Можно сказать, что красота не есть лишь категория эстетическая, но есть и категория метафизическая» [40].