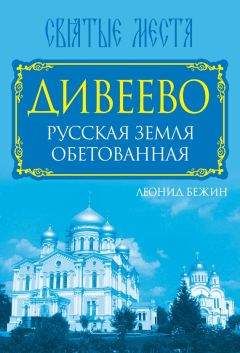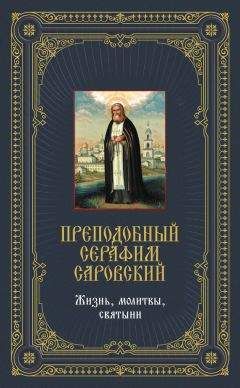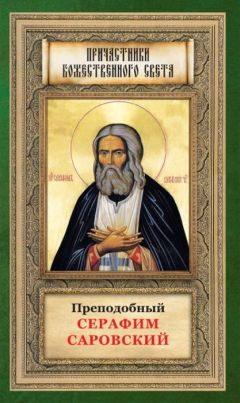Ознакомительная версия.
Однако возникает вопрос: если батюшка Серафим так заботился о Дивееве, почему он за всю свою жизнь был там всего один раз? Да, один раз, когда у постели умирающей матушки Александры – в присутствии игумена Пахомия – ему было поручено взять дивеевских сестер под свою опеку? Ведь ходил же он в дальнюю пустыньку, а собирая пожертвования на больничную церковь, обошел многие близлежащие города – Арзамас, Лукоянов, Темников, Ардатов, затем добрался до Орла, побывал в родном Курске (брат Алексей пожертвовал на церковь большую сумму), а вот в Дивееве больше не бывал. Ни разу. Казалось бы, как любящий отец дочерей, мог бы навестить, проведать, но… они к нему – да, и очень часто, а он к ним – нет, никогда. Почему, почему? Вопрос не из легких, и все-таки попытаемся на него ответить. Ну, во-первых, надо учитывать, что Дивеево – обитель женская. Серафим и в Сарове-то не знал, куда бежать от «галок намазанных», как называл он наиболее досаждавших ему, расфуфыренных и развязных представительниц женского пола, а самому бывать в Дивееве… нет, он мог беречь себя так же, как берег Марию Мантурову от ненужного соблазна. После отпевания в Дивееве матушки Александры Серафим даже на ночлег там не остался – «по целомудрию своему», как отмечает автор «Летописи».
А во-вторых, очевидно, так надо было… на расстоянии. Святой на то и святой, что он не нуждается в подобных посещениях, ведь, собственно, пространства для него не существует. Он преодолевает, устраняет, сводит на нет его молитвой. Невозможно себе представить, чтобы Серафим, словно подрядчик, на месте все придирчиво осматривал, во все вникал, распоряжался. Поэтому он и ответил своему ближайшему помощнику Михаилу Мантурову, когда его звали на освящение Рождественской церкви, выстроенной на средства Михаила Васильевича: «Нет, зачем их смущать, не пойду! И ты не ходи. Им лучше дать, что нужно, они сами все сделают и распорядятся всем, как следует, а ходить нам к ним не надобно» («Летопись», 283)). Дивеево Серафим прозревал, созидал в духе, творя волю Царицы Небесной, а это несовместимо с физическим пребыванием. Пребывали там его верные помощники, поручители – Василий Мантуров (ему все же оказалось «надобно») и Николай Мотовилов. Сам же Серафим лишь давал им точные указания, что и как сделать, – указания, им полученные от самой Богородицы.
Здесь необходимо отступление. Возможно, найдется читатель, у которого – при всем благоговейном почитании преподобного Серафима – шевельнется сомнение: указания Богородицы… не слишком ли? Да, высшие силы вмешиваются в нашу жизнь, но не до такой же степени, не с такой кропотливой дотошностью, а сквозь некую пелену, дымку неопределенности. Знамение? Дерево преклонилось? Да, согласны, а вот указание… Да и вообще эти двенадцать случаев посещения Богородицей Серафима, и не одной, а со свитой, их беседы… гм… не то чтобы не верится, а как-то странно. Странно потому, что несоразмерно времени. Ведь это не эпоха Гомера, когда боги спускались на землю, и не век Моисея, получавшего от Бога детальные инструкции, как, из какого дерева и кож строить Скинию, а вторая половина XVIII – начало XIX века. Недалеко до железных дорог, автомобилей, телефонов, научной критики Библии, неверия и атеизма.
Да! В том-то и дело, уважаемый читатель. Серафим последним призван засвидетельствовать, что может открыться дверь, и в келью легкой поступью, не касаясь земли, войдет Пречистая Дева. После него такого уже не будет – отсюда и избыточность чуда, его несоразмерность времени. К тому же Серафим один, критиков же, Неверов и атеистов будет легион, и они станут трубить на все голоса, усиленные репродукторами. И чтобы мы все-таки услышали в этом шуме голос преподобного, он тоже должен быть чем-то усилен…
Да, думается, так, а теперь вернемся к нашему повествованию.
Лишь однажды сестры Мельничной обители увидели батюшку Серафима копающим канавку. Вот как об этом через много лет вспоминала одна из сестер – Анна Алексеевна: «Приказал батюшка вырыть канавку, дабы незабвенна была во веки веков для всех тропа, коей прошла Матерь Божия, Царица Небесная, в удел свой взяв Дивеево! Слушать-то сестры все это слушали, да все и откладывали исполнить приказание батюшкино и не начинали рыть канавку. Раз одна из нас, чередная, по имени Мария… ночью, убираясь, вышла зачем-то из келлии и видит – батюшка Серафим в белом своем балахончике сам начал копать канавку. В испуге, а вместе и радости, не помня себя, вбегает она в келлию и всем нам это сказывает. Все мы, кто в чем только был, в неописанной радости бросились на то место и, увидев батюшку, прямо упали ему в ноги, но, поднявшись, не нашли уже его, лишь лопата и мотыжка лежат перед нами на вскопанной земле. С аршин была уже она на том самом месте вырыта: по этому-то самому и называется это началом канавки, так сам батюшка, видя нерадение и небрежение наше к исполнению заповеди его, начал и закопал ее. Тут уже все приложили старание… всю своими руками, как приказывал он, выкопали сестры эту святую, заповедную нам канавку; и лишь только окончили, скончался тут же и родимый наш батюшка, точно будто только и ждал он этого».
Как все бесхитростно просто и глубоко символично в этом рассказе. Приказал, а они все откладывали и не начинали. И тогда Серафим все-таки навестил своих дивеевских воспитанниц, явился им, но не во плоти, а в духе, чтобы положить начало канавке. А когда она была полностью вырыта, покинул этот мир.
Явился, чтобы положить начало – вот, пожалуй, самый точный ответ на наш вопрос.
А теперь вернемся к встрече Прохора с матушкой Александрой, тоже символичной, исполненной особого значения, судьбоносной для Дивеева и Мельничной обители.
Дивеево. Канавка Пресвятой Богородицы
Первые летние дни выдались жаркие, но жара не томила, поскольку все-таки был июнь, еще тянуло от земли весенней сыростью, в оврагах кое-где белел не дотаявший снег, и ветер не позволял воздуху застаиваться и слишком прогреваться на солнцепеках. Резкой синевы небо сквозило меж соснами, как-то странно приближенное к земле, словно выпуклое, увеличенное, – наверное, оттого, что облака казались слишком отчетливыми и рельефными. Иногда у горизонта мутнело, туманилось, погромыхивало, но не надтреснутыми раскатами, а так по-будничному глуховато, словно на небе передвигали мебель.
Игумен Пахомий собирался в дорогу, не такую уж дальнюю, всего верст пятнадцать-двадцать, но все-таки надо позаботиться о необходимых вещах, не упустить ни одной мелочи (иначе хватишься, а под рукой-то и не нет). Также стоит подумать, кого взять с собой: без попутчиков в здешних краях нельзя. Пошаливают. Постреливают. Таятся во рвах и шарят по дорогам лихие люди. Да и служить придется – не в одиночку же. Предстоит совершить отпевание по усопшему рабу Божьему помещику Соловцову из сельца Леметь. Вот и его черед подоспел, а то, бывало, кругленький, гладкий, но с сухоньким подвижным лицом, беспокойный, заполошный, на месте не усидит, непременно вскочит, а зачем – сам не знает. То робок до заикания, а то любил важность на себя напустить, все руки за спину закладывал, и не втолкуешь ему, что бесу на радость: заложил за спину, – значит, лишний раз не перекрестится: связаны руки. Но при этом усердный благотворитель монастыря, сколько вкладов сделал, и деньгами, и холстом, и свечным воском. Как не помолиться за него, не проводить душу в вышние обители, да и близких не утешить, вдову и осиротевших детишек.
А по пути заглянуть в Дивеево – навестить матушку Александру, основательницу тамошней женской обители. Слыхать, хворает, поговаривает о близкой кончине, желает собороваться – вот и нужны помощники. Жаль, отец Иосиф несколько лет назад преставился, отошел ко Господу, царство ему небесное – вот бы с ним отслужить-то, но не судьба. Кого же вместо него? Казначея Исайю попросить разве что и, конечно же, Прохора: и матушка Александра о нем наслышана, да и покойный Соловцов его любил.
Впрочем, Прохором его лишь по старой памяти называют, и то ненароком: он теперь иеродьякон Серафим (с этим именем три года назад его постригли), а сколько до этого послушаний сменил – не сосчитать. Случись где какая нужда – кого послать? Прохора. Иной-то отговорку найдет, если ему не по нутру, постарается схитрить, увильнуть, Прохор же с готовностью на все согласен: такой уж он сызмальства. Так он и в пекарне печи топил, мешки с мукой таскал, бадьи и кадки ворочал. Затем перевели его в просфорню – тесто месить, затем назначили будилыциком – по утрам сонливых и нерадивых расталкивать, трясти, тормошить, торопить на молитву. Он и на клиросе пел, и за монастырским лесом смотрел, чтоб не вырубали.
Но всего искуснее он в столярном деле – вот уж действительно нет ему равных. Его в ту пору так и звали – Прохор-столяр. Рубанком стружку снимет, угольник приложит, карандашиком черкнет, ровненько отпилит, прибьет, напильником и наждаком пройдется – любо-дорого глядеть. Но особенный мастер топориком всякие художества выделывать: кажется, и других инструментов ему и не надо. Аналой – так аналой, столик – так столик. Искусной работы кипарисовые крестики для паломников вырезает. А если гроб понадобится, то такой из цельной лесины выдолбит, что хоть живой ложись и всласть полеживай.
Ознакомительная версия.