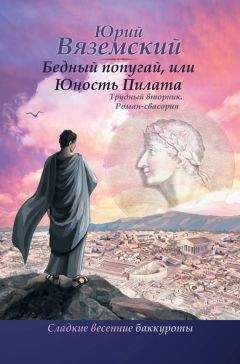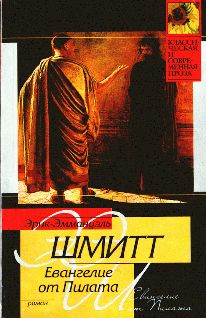безусловная истина, и на основании веры в дьявольский обман Булгаков и
выстраивает всю нравственно-философскую и эстетическую систему своего
творения.
Идея Воланда уравнивается в философии романа с идеей Христа. "Не
будешь ли ты так добр подумать над вопросом, – поучает свысока дух тьмы
глуповатого евангелиста, – что бы делало твое добро, если бы не
существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени?
Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень от моей шпаги. Но
бывают тени от деревьев и живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь
земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей
фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп" [10]. Не высказывая прямо,
Булгаков подталкивает читателя к догадке, что Воланд и Иешуа суть две
равновеликие сущности, правящие миром. В системе же художественных
образов романа Воланд и вовсе превосходит Иешуа – что для всякого
литературного произведения весьма существенно.
Но одновременно читателя подстерегает в романе и страннейший
парадокс: несмотря на все разговоры о зле, Сатана действует скорее
вопреки собственной природе. Воланд здесь – безусловный гарант
справедливости, творец добра, праведный судия для людей, чем и привлекает
к себе горячее сочувствие читателя. Воланд – самый обаятельный персонаж
романа, гораздо более симпатичный, нежели малохольный Иешуа. Он активно
вмешивается во все события и всегда действует во благо – от
наставительных увещеваний вороватой Аннушке до спасения из небытия
рукописи Мастера. Не от Бога – от Воланда изливается на мир
справедливость. Недееспособный Иешуа ничего не может дать людям, кроме
абстрактных, духовно расслабляющих рассуждений о не вполне вразумительном
добре да кроме туманных обещаний грядущего царства истины. Воланд твердой
волей направляет деяния людей, руководствуясь понятиями вполне конкретной
справедливости и одновременно испытывая к людям неподдельную симпатию,
даже сочувствие.
И вот важно: даже прямой посланник Христа, Левий Матвей, "моляще
обращается" к Воланду. Сознание своей правоты позволяет Сатане с долей
высокомерия отнестись к неудавшемуся ученику-евангелисту, как бы
незаслуженно присвоившему себе право быть рядом с Христом. Воланд
настойчиво подчеркивает с самого начала: именно он находился рядом с
Иисусом в момент важнейших событий, "неправедно" отраженных в Евангелии.
Но зачем так настойчиво навязывает он свои свидетельские показания? И не
он ли направлял вдохновенное прозрение Мастера, пусть и не подозревавшего
о том? И он же спас рукопись, преданную огню. "Рукописи не горят" – эта
дьявольская ложь привела когда-то в восторг почитателей булгаковского
романа (ведь так хотелось в это верить!). Горят. Но что спасло эту? Для
чего Сатана воссоздал из небытия сожженную рукопись? Зачем вообще
включена в роман искаженная история Спасителя?
Давно уже сказано, что дьяволу особенно желательно, чтобы все
думали, будто его нет. Вот то-то и утверждается в романе. То есть не
вообще его нет, а не выступает он в роли соблазнителя, сеятеля зла.
Поборником же справедливости – кому не лестно предстать в людском мнении?
Дьявольская ложь становится стократ опаснее.
Рассуждая об этой особенности Воланда, критик И.Виноградов сделал
необычно важный вывод относительно "странного" поведения Сатаны: он не
вводит никого в соблазн, не насаждает зла, не утверждает активно неправду
(что как будто должно быть свойственно дьяволу), ибо в том нет никакой
нужды. По булгаковской концепции, зло и без бесовских усилий действует в
мире, оно имманентно миру, отчего Воланду остается лишь наблюдать
естественный ход вещей. Трудно сказать, ориентировался ли критик (вслед
за писателем) сознательно на религиозную догматику, но объективно (хотя и
смутно) он выявил важное: булгаковское понимание мира в лучшем случае
основано на католическом учении о несовершенстве первозданной природы
человека, требующей активного внешнего воздействия для ее исправления.
Таким внешним воздействием, собственно, и занимается Воланд, карая
провинившихся грешников. Внесение же соблазна в мир от него не требуется
вовсе: мир и без того соблазнен изначально. Или же несовершенен
изначально? Кем соблазнен, если не Сатаной? Кто совершил ошибку, сотворив
мир несовершенным? Или не ошибка то была, а сознательный изначальный
расчет? Роман Булгакова открыто провоцирует эти вопросы, хотя и не дает
на них ответа. Додумываться должен читатель – самостоятельно.
В.Лакшин обратил внимание на иную сторону той же проблемы: "В
прекрасной и человеческой правде Иешуа не нашлось места для наказания
зла, для идеи возмездия. Булгакову трудно с этим примириться, и оттого
ему так нужен Воланд, изъятый из привычной ему стихии разрушения и зла и
как бы получивший взамен от сил добра в свои руки меч карающий" [11].
Критики заметили сразу: Иешуа воспринял от своего евангельского Прототипа
лишь слово, но не дело. Дело – прерогатива Воланда. Но тогда... сделаем
вывод самостоятельно... Иешуа и Воланд – не что иное, как две
своеобразные ипостаси Христа? Да, в романе "Мастер и Маргарита" Воланд и
Иешуа – это персонификация булгаковского осмысления двух сущностных
начал, определивших земной путь Христа. Что это – своеобразная тень
манихейства?
Но как бы там ни было, парадокс системы художественных образов
романа выразился в том, что именно Воланд-Сатана воплотил в себе хоть
какую-то религиозную идею бытия, тогда как Иешуа – и в том сошлись все
критики и исследователи – есть характер исключительно социальный, отчасти
философский, но не более. Можно лишь повторить вслед за Лакшиным: "Мы
видим здесь человеческую драму и драму идей. /.../ В необыкновенном и
легендарном открывается по-человечески понятное, реальное и доступное, но
оттого не менее существенное: не вера, но правда и красота" [12].
Разумеется, в конце 60-х годов весьма соблазнительно было: как бы
отвлеченно рассуждая о евангельских событиях, касаться больных и острых
вопросов своего времени, вести рискованный, щекочущий нервы спор о
насущном. Булгаковский Пилат давал богатый материал для грозных филиппик
по поводу трусости, приспособленчества, потворствования злу и неправде –
то звучит злободневно и до сих пор. (К слову: не посмеялся ли Булгаков
лукаво над будущими своими критиками: ведь Иешуа вовсе не произносил тех
слов, обличающих трусость, – они примыслены ничего не понявшими в его
учении Афранием и Левием Матвеем). Понятен пафос критика, взыскующего
возмездия. Но злоба дня остается лишь злобой. "Мудрость мира сего" не
способна оказалась подняться до уровня Христа. Его слово понимается на
уровне ином, на уровне веры.
Однако "не вера, но правда" привлекает критиков в истории Иешуа.
Знаменательно само противопоставление двух важнейших духовных начал, на
религиозном уровне не различаемых. Но на низших-то уровнях смысла
"евангельских" глав романа невозможно осознать, произведение остается
непонятым.
Разумеется, критиков и исследователей, стоящих на позициях
позитивистски-прагматических то и не должно смущать. Религиозного уровня
для них и нет вовсе. Показательно рассуждение И.Виноградова: для него
"булгаковский Иешуа – это на редкость точное прочтение этой легенды (т.е.
"легенды" о Христе. – М.Д.), ее смысла – прочтение, в чем-то гораздо
глубже и вернее, чем евангельское ее изложение" [13].
Да, с позиции обыденного сознания, по человеческим меркам –
неведение сообщает поведению Иешуа пафос героического бесстрашия,
романтического порыва к "правде", презрения к опасности. "Знание" же
Христом Своей судьбы как бы (по мысли критика) обесценивает Его подвиг
(какой-де тут подвиг, если хочешь – не хочешь, а чему суждено, то и
сбудется). Но высокий религиозный смысл совершившегося ускользает таким
образом от нашего понимания. Непостижимая тайна Божественного
самопожертвования - наивысший пример смирения, приятие земной смерти не
ради отвлеченной правды, но во спасение человечества – конечно, для
атеистического сознания то суть лишь пустые "религиозные фикции" [14], но
надо же признать хотя бы, что даже как чистая идея эти ценности гораздо
важнее и значительнее, нежели любой романтический порыв.
Легко просматривается истинная цель Воланда: десакрализация земного