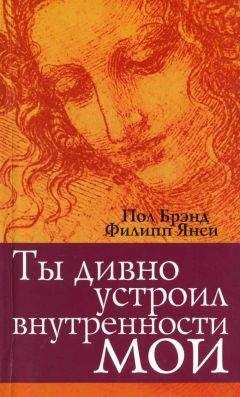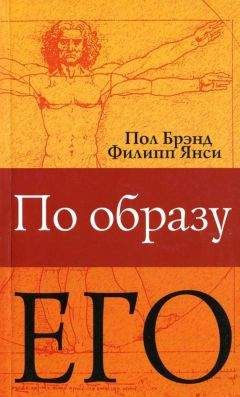Одних Бог ставит на передовую, например Мать Терезу, Корри тен Бум, Билли Грэма. Они заслуживают того, чтобы мы за них молились, поддерживали их и ни в коем не завидовали им, — жизнь на передовой Тела Христова нелегка.
История церкви пестрит «клетками», которые добровольно решали жить в местах, где их подстерегали наибольшие нагрузки. Им нипочем были удары, жара, невыносимое напряжение. Список героев веры из главы 11 Послания к Евреям звучит для меня как перекличка мучеников, сражавшихся на передовой. Ибо они «заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не принявши освобождения, дабы получить лучшее воскресение; другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли» (Евр. 11:33–38).
Сегодня христиан преследуют в странах, где господствуют репрессивные режимы. Александр Солженицын напоминает нам о море страданий, в которое были погружены русские христиане, о том наследии, которое они оставили миру.
Я вспоминаю свою мать. Они жила в комфортабельном доме на окраине Лондона. Оттуда она уехала миссионером в Индию. Когда «бабуле Брэнд» исполнилось 69 лет, миссия предложила ей пойти на пенсию. И она вышла на пенсию, но без работы она пробыла недолго — лишь до тех пор, пока не нашла удаленного местечка в горах, где еще не ступала нога миссионера. На свой страх и риск она забралась в эти горы, построила маленькую деревянную хижину и проработала там еще 26 лет. Изза сломанного бедра и прогрессирующего паралича она могла передвигаться только с помощью двух бамбуковых палок, но на своей старой кляче она с докторским чемоданчиком объезжала окрестные горы. Там она искала тех, кто был никому не нужен — уродливых, больных, увечных, слепых, — и лечила их. Когда она приезжала в знакомое селение, навстречу ей высыпала целая толпа, встречавшая ее радостными приветствиями.
Моя мама умерла в 1974 году в возрасте девяноста пяти лет. Из–за плохого питания и слабого здоровья суставы у нее опухли, она стала худой и изможденной. Она перестала заботиться о своей внешности задолго до этого, даже не хотела смотреть в зеркало, чтобы не видеть на лице отпечатка суровой жизни. Она была частью передового отряда Божьей армии, несшего Божью любовь отверженным.
Другая женщина, тоже служащая в Божьем передовом отряде, сочетает в себе все свойства кожи Тела Христова. Монахиню, доктора Пфау, я встретил в 1950 году в окрестностях Карачи, в Пакистане. Худших условий для жизни и представить себе нельзя. Еще задолго до того как я добрался до ее дома, зловонный запах начал разъедать мне ноздри. Запах был настолько сильным, что казался почти осязаемым.
Вскоре я увидел огромную свалку мусора на берегу моря — отбросы большого города, которые разлагались и гнили здесь уже многие месяцы. В воздухе гудели тучи мух. Наконец я стал различать фигуры людей, покрытых язвами, копошащихся в грудах отбросов. Это были прокаженные. Больше сотни прокаженных, изгнанных из Карачи, поселились здесь на свалке. Листы ржавого железа указывали на их укрытия. Труба с краном, из которого капала вода, была единственным источником воды. (Сегодня этой свалки уже нет, и доктор Пфау служит старшим врачом в современной больнице для прокаженных в Пакистане).
И вот здесь, рядом с этим ужасным местом, я увидел чистенькую деревянную клинику. Там я и нашел доктора Пфау. Она с гордостью показала мне аккуратные полки, папки с историями болезней пациентов. Такая папка была заведена на каждого пациента со свалки. Разительный контраст между ужасающей картиной горы отбросов и этим оазисом любви и заботы — чистенькой клиникой — навсегда врезался в мою память. Каждый день доктор Пфау исполняла функции кожи. Она являла собой красоту, чувствительность к нуждам других, сострадание и постоянное, бесстрашное практическое проявление Божьей любви — любви через прикосновение. По всему миру люди, подобные ей, выполняют Христову заповедь — наполняют мир Божьим присутствием.
При отсутствии других доказательств достаточно одного пальца, чтобы убедить меня в существовании Бога.
Исаак НьютонНа сцену выходит уже немолодой человек. У него приятная внешность. На испещренном морщинами лице выделяется крупный нос. Ссутуленные плечи, запавшие тусклые глаза — человеку более девяноста лет. Он садится на голую черную скамеечку, подвигая ее под себя. Сделав глубокий вдох, поднимает руки. Слегка дрожа, они на минуту застывают над черно–белыми клавишами. И вот начинается музыка. Все мысли о старческой слабости немедленно уходят из сознания четырех тысяч человек, пришедших на концерт Артура Рубинштейна.
Программа вечера очень проста: экспромт Шуберта, несколько прелюдий Рахманинова и хорошо знакомая всем «Лунная соната» Бетховена — любое из этих произведений можно услышать на уроках в музыкальной школе. Но сегодня их исполняет Рубинштейн. Бросая вызов смерти, его исполнение соединяет воедино безупречную технику с высоким поэтическим стилем. Его интерпретации музыкальных произведений вызывают у публики восторженные нескончаемые крики «Браво!» Рубинштейн слегка кланяется и, согнув в локтях свои такие непостижимые старческие руки, уходит со сцены.
Должен признать, что такое великолепное исполнение, как у Рубинштейна, воздействует на мои глаза так же, как и на уши. Руки — моя профессия: я изучаю их всю жизнь. Игра на фортепиано — это балет пальцев, восхитительные движения связок и суставов, сухожилий, нервов и мускулов. Я должен сидеть рядом со сценой, чтобы наблюдать за их движением.
Я проделал очень скрупулезный расчет и теперь знаю: ритм, требуемый для исполнения некоторых музыкальных партий, таких, например, как мощное арпеджио в «Лунной сонате», слишком быстрый, и наше тело просто не может поспеть за ним. Нервные импульсы не передаются в мозг с такой скоростью, чтобы успеть дать команду третьему пальцу быстро подняться от клавиши — дабы четвертый палец успел вовремя ударить по следующей клавише. Должны пройти месяцы бесконечных тренировок, прежде чем мозг сможет подсознательно давать быстрые указания пальцам, т. е. выработается рефлекс — музыканты называют его «память пальцев».
Я не менее восхищаюсь и медленными, ритмичными пассажами. Хороший пианист управляет своими пальцами так, как будто они не связаны между собой. Когда звучит аккорд из восьми нот, для исполнения которого требуются обе руки, каждый палец оказывает разное давление на клавишу для придания звуку выразительности, а нота основной мелодии звучит громче всех. В ключевом отрывке пианиссимо разница в давлении на клавиши разными пальцами составляет всего несколько грамм — только оснащенная самыми совершенными техническими средствами лаборатория может зафиксировать эту разницу. А в человеческом ухе такая лаборатория имеется. И музыканты, подобные Рубинштейну, слышат возгласы восхищения, потому что умеющие различать звуки слушатели способны наслаждаться малейшими нюансами исполнения.
Очень часто мне приходилось стоять перед группой студентов медицинского университета или хирургов и подробно объяснять им движение всего лишь одного пальца. Обычно я держу перед ними препарированную руку трупа. Она всегда выглядит ужасно: из нее торчат разорванные сухожилия. Я объявляю, что пошевелю кончиком мизинца этой руки. Для демонстрации только одного этого движения мне надо положить мертвую руку на стол и потратить, по меньшей мере, четыре минуты, чтобы разобраться в путанице связок и сухожилий. (Сами пальцы не снабжены мышцами, обеспечивающими ловкость и проворство, необходимые для такой деятельности, как игра на пианино, — сухожилия передают им усилия от мышц предплечья и ладони). Наконец, я нахожу с десяток необходимых мне мышц, придаю им нужное положение, слегка натягиваю их и очень осторожно перемещаю — кончик мизинца совершает заметное движение без какого бы то ни было участия двух других своего сустава.
Семьдесят различных мышц участвуют в движении руки. Я могу заполнить всю комнату хирургическими руководствами, предлагающими различные способы восстановления поврежденной руки. Но за сорок лет практики я ни разу не встречал руководства, предлагающего усовершенствовать работу нормальной, здоровой руки.
Я всегда вспоминаю свои лекции, когда сижу на концерте и наблюдаю, как тонкие пальцы пианиста взлетают вверх и падают вниз, как они скользят по клавишам. Я глубоко уважаю руку. Рубинштейн использует ее функцию, как что–то само собой разумеющееся. Руки — его покорные слуги. Часто он закрывает глаза или смотрит прямо перед собой, как бы не замечая своих рук. Он совершенно не думает о мизинце: он осмысливает Бетховена или Рахманинова.