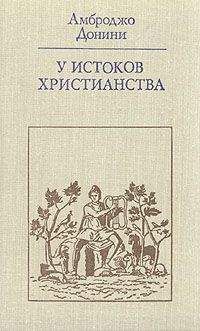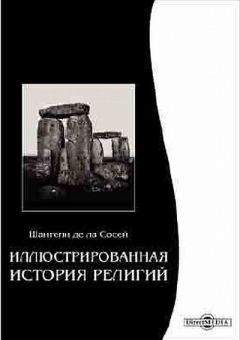Но над всеми теологическими фантасмагориями вырисовывается одно несомненное явление: начиная с конца II в. почти все религии мистерий, за исключением, быть может, культа Митры, неизменно уступают место христианским церквам. Что определило эту эволюцию, с которой после Константина и вплоть до радикального преобразования всей обстановки в средиземноморском мире должна была считаться центральная власть?
Социальные слои, среди которых оба эти типа культа развертываются, одни и те же: рабы и отпущенники, мелкие ремесленники и обедневшие торговцы, солдаты, набранные из трудового люда в городе и батраков в деревне, должники, все сбившиеся с пути истинного, военнопленные из сопредельных народов — галлов, иберов, далматинцев, германцев, сарматов, а также азиатские н месо-потамские наемники. Элементы привилегированных слоев, переживавшие амбиции и страхи, характерные для периодов экономических и политических кризисов, находят в этой религии прибежище, когда в поисках ясности духа и нравственного утверждения обнаруживают, что традиционная философия и стоическое и киническое учения не могут более их утешить. В этих культах сказывается влияние женщин, которые рассчитывают на определенные посты в жреческой иерархии. Марсия, одна из фавориток императора Коммода, — христианка. О ней говорят, что она пыталась помочь спасти жизнь осужденным на ссылку в смертоносные сардинские рудники товарищам по вере, среди которых был и будущий епископ Каллист. Суждения многих языческих авторов того времени, встревоженных проникновением христианства в господствующие слои общества, свидетельствуют о быстром росте числа приверженцев новой религии. Неоспоримый престиж некоторых крупнейших теологов, таких, как Ипполит из Рима, приближенный двора Северов, как Климент и Ориген, привлекает учеников и любопытных в первый христианский университет Дидаскалейон в Александрии Египетской.
Обычно утверждают, что постепенное преобладание христианства над религиями мистерий обусловлено двумя факторами — сочетанием мифа о Христе с достаточно точным историческим преданием, каким является библейская традиция, тогда как божества других религий пребывают в неопределенном и необыкновенном мире, и в существенном превосходстве евангельского благовещения, которое призывало к организации такой формы совместной жизни, которую не сковывали магия, астрология и подчас пугающие культовые обряды.
Нет сомнения, это — заслуживающие внимания мотивы. Но их недостаточно для объяснения явления во всей его сложности. Более важны другие причины. Прежде всего, это ориентация верующих на сверхъестественное, поскольку они предчувствовали пришествие «царствия божьего», в котором видели единственную альтернативу «царству Цезарей» и надежду на разрушение древних этнических и государственных барьеров. Несмотря на широкое распространение языческих культов и их успех на всем пространстве империи, Диони. с и Орфей оставались, по существу, эллинскими, Аттис — анатолийским, Адонис — сирийским, Исида и Осирис — египетскими божествами, неизменно связанными с отдельными народами. Христианство же обращалось ко всем без различия, проповедуя равенство в грехе, в искуплении и воздаянии.
Во вторую очередь следует указать на меньшее финансовое бремя культа Христа. Подати, учрежденные для содержания различных религиозных организаций, давили на значительную часть населения, становились нестерпимыми. ТертУллиан отмечает с удовлетворением, что посещение храмов сокращалось из года в год (Апологетика, 23). Это не удивительно в условиях всеобщего экономического оскудения: империя, которая перестала расширяться, сжигала свои ресурсы в войнах против «варваров»; число рабов сокращалось вследствие эпидемий и ранней их смертности, переход от рабского труда к новой системе крепостничества порождал серьезные и непредвиденные трудности.
Наконец, в состоянии напряженности, вызванной ожиданием конца света, моральный ригоризм христианских общин не выражался в столь сложных и отягощенных запретами церемониях, которые разобщали людей, вместо того чтобы объединять их, как это было в соперничавших с христианством культах. Именно в силу преходящего, связанного с этим ожиданием характера Ндравствен-ных установок христианства оно порождало различные формы взаимопомощи и взаимодействия, умерявшие отчаяние наиболее бедных слоев. Конечно, тогда невозможно было предвидеть, что именно эта ситуация будет способствовать также и растущему разобщению клира с остальными верующими. Сам переход к менее требовательной в ритуальном отношении религиозной жизни породит затем протесты и расколы.
«Великое прощение», предложенное в «Пастыре» Гермы, было принято только потому, что люди верили в близкий конец света. Но когда римская и карфагенская общины открыли ворота для грешников, когда рабы увидели, что их положение облегчается (так, например, римский епископ Каллист (217–222) стал рассматривать законными союзы матрон с рабами), часть членов этих об-Щин, как мы увидим позже, отвергла собственного епископа. Но тогда столичная церковь разделилась надвое: Кал-листу противодействовал Ипполит, которого историографы римской курии любят называть, не заботясь об этом анахронизме, первым из «антипап».
В собственно идеологической области вырисовываются некоторые новые явления. Концепция единого бога, формирующаяся в структуре политеистического греко-римского пантеона, особенно заметно проявившаяся в культе солнца, уже ориентирует христиан на формулу веры, которая возобладает только после Константина: один бог на небе, один господин на Земле. Такому эклектику, как Апулей, современнику апологетов, бесчисленные божества тоже могли показаться созданными одной высшей силой, но для массы верующих множественность богов была реальностью, которая обусловливала дробление на тысячи направлений того ритуального единства, в котором они ощущали потребность перед лицом враждебного им общества, вопреки все еще преобладавшему политеизму. Одна глубокая забота, продиктованная установками монотеизма, доминирует над христианской теологией вплоть до средних веков: как примирить единичность бога с обожествлением мессии? Как совместить человеческое страдание Христа с его сверхъестественной природой? И потом, как определить роль духа в этой триаде?
Вопреки абсурдности и искусственности этой проблемы, она существовала в конкретной жизни целых поколений христиан, прежде чем перейти в область догматической абстракции.
Трудно отрицать, что доктрина Христа-логоса возникла в обстановке колебаний и расколов не столько для того, чтобы представить в более доступных официальной культуре терминах мессианскую концепцию Израиля, сколько для того, чтобы ответить на поиски единства в низших слоях народа, который видел в страдании «сына божьего», замещающем их собственные страдания, надежду на освобождение. Это нужно иметь в виду, если есть желание что-либо понять в процессе отчуждения мира, типичном для всякой религиозной идеологии.
В отождествлении евангельского Иисуса со «словом» или «разумом» бога, то есть с «логосом», еще не было ни единства, ни четкости. Для Юстина и Климента Александрийского это скорее философская, нежели теологическая концепция. Не исключено, что вначале Христос представлялся своего рода демиургом, который посредничает в отношениях между творцом и творением, но без выводов гносиса, который видит в них две антагонистические сущности. К тому же предсуществование этого демиурга признавалось не всеми.
Стоическое воспитание некоторых апологетов побуждает их утверждать, что по существу любой человек уже обладает в своем разуме частицей божественного логоса, Который проявился в Иисусе. Тем самым был сделан рещительный шаг: если существует рассеянная в мире рациональная субстанция (Юстин), она должна в потенции существовать уже в отце, как его внутреннее «слово» (Фес-фил Александрийский) или как его внешняя эманация, порождаемая извечно (Афинагор). Чтобы преодолеть обвинение в «дитеизме», то есть удвоении единственного божества, большая часть этих теологов дает понять, что Христос должен быть каким-то образом подчинен отцу. Иреней, который мыслит обе сущности раздельно (впоследствии они станут тремя лицами догмата троичности), считает как сына, так и дух подчиненными отцу, простыми орудиями его деятельности.
В ходе этих постоянных теологических исканий возникали «ереси», случаи отпадения, отделения от общей веры. Но это не самое интересное явление в христианстве той эпохи. Важнее отметить возникновение «монархической» тенденции, в соответствии с которой три божественные ипостаси, как три способа бытия, подчинены единой юрисдикции отца — в этом учении о подчинении сына отцу естественно отражаются характерные отношения в человеческой семье.